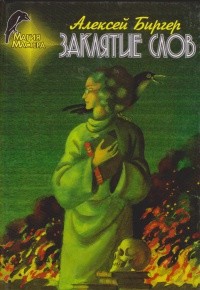class="v">И гул работающих вод;
Тебе привет из стран Биармии далекой,
Привет царицы хладных рек,
Той Камы сумрачной, широкой и глубокой,
Чей сильный, бурный водобег,
Под кликами орлов свои валы седые
Катя в кремнистых берегах,
Несет железо, лес и горы соляные
На исполинских ладиях;
Привет Самары, чье течение живое
Не слышно в говоре гостей,
Ссыпающих в суда богатство полевое,
Пшеницу – золото полей;
Привет проворного, лихого Черемшана,
И двух Иргизов луговых,
И тихо-струйного, привольного Сызрана,
И всех и больших и меньших,
Несметных данников и данниц величавой,
Державной северной реки,
Приветы я принес тебе!.. Теки со славой,
Князь многих рек, светло теки!
Блистай, красуйся, Рейн! Да ни грозы военной,
Ни песен радостных врага
Не слышишь вечно ты; да мир благословенный
Твои покоит берега!
Да сладостно, на них мечтая и гуляя,
В тени раскидистых ветвей,
Целуются любовь и юность удалая
При звоне синих хрусталей!
Да, Волга все равно лучше… Но какой привет и Германии, и всей Европе, всему лучшему в ее культуре, истории, на ее пространствах. После этого Языков мог сколько угодно писать, в послании к Гоголю например, ироничные строки, за которые его тем яростнее стремились причислить к оголтелым националистам и врагам всего передового, —
Отрады нет. Одна отрада,
Когда перед моим окном,
Площадку гладким хрусталём
Оледенит година хлада:
Отрада мне тогда глядеть,
Как немец скользкою дорогой
Идёт с подскоком, жидконогой, —
И бац да бац на гололедь!
– но здесь опять возвращение к давней мысли и давнему недоумению, что же и почему Европа вползает в ничтожество после своих свершений; и здесь, как ни странно, Языков (скорее всего, того не зная) в очередной раз полностью солидаризируется с Чаадаевым, который неоднократно писал и разъяснял, что России надо брать пример с великой Европы прошлых веков, когда Россия была в ничтожестве, а Европа расцветала; теперь же, когда Европа все больше сползает в распад и ничтожество, и неважно, когда это станет очевидно, через сто, двести или триста лет, России предстоит взять на себя главную роль, потому что лишь ее путь ведет к истинному величию… Все равно, как бы Языков ни относился к «немчуре» (и здесь еще раз надо осознать, что «немчура» для Языкова не национальность, а некое общее явление, от принадлежности к той или иной нации, может, сколько-то и зависящее, но не слишком), мы снова и снова будем повторять – как заклинание, как призыв и мольбу, с надеждой и верой, вечное и неизбывное:
Блистай, красуйся, Рейн! Да ни грозы военной,
Ни песен радостных врага
Не слышишь вечно ты; да мир благословенный
Твои покоит берега!
Да сладостно, на них мечтая и гуляя,
В тени раскидистых ветвей,
Целуются любовь и юность удалая
При звоне синих хрусталей!
Не сбылось, к сожалению, пожелание Языкова. Берега Рейна повидали такое, что страшно вспомнить. Так же, как и берега Волги, от которой Языков передал Рейну столь пламенный привет. Но, все равно, остается надежда на будущее, на то, что братство рек, воспетое Языковым, станет и братством людей.
Вот оно, то, что мы уже обозначали – чтобы далеко не ходить в поисках определений – заезженным до боли, почти до неприличия термином «всемирная отзывчивость». Языков поднимается наконец к этой всемирной отзывчивости не умозрительно, не теоретически, потому что так надо, а всем сердцем. И поднимается тогда, когда через Гоголя, через искры, высеченные началом дружбы с ним, его стих по-новому обретает разговорную, почти простецкую интонацию, когда на глубинном фундаменте «никчемного и незаметного» находит себе опору, такую же, как у Гоголя в «Шинели», «Старосветских помещиках»… Да где угодно, вплоть до «Мертвых душ».
Очень интересно письмо Языкова из Ниццы Василию Андреевичу Елагину – младшему брату, по матери, Петра и Ивана Киреевских.
Отправлено 2 (по европейскому стилю 14) апреля 1840 года:
«Достойно и праведно благодарю Вас за письмо Ваше и паче за Ваше воспоминание обо мне: оно освежает, услаждает и утешает вялую, горькую и горемычную жизнь мою под веселым небом юга, в стороне лимонов, олив и лавров и в виду средиземных вод, которые мне уже давно наскучили, как лекарственные. Нетерпеливо жду письма от Петра Васильевича вместе с известием о начале печатания песен: боюсь, чтоб он вовсе их не бросил, углубившись еще и в мир византийский. Как жаль мне, что я теперь не в Москве, что не слышу этих жарких и коренных споров о предметах важных! Воображаю А. И. Тургенева защищающимся от наших подвижников! На Петра Васильевича надеюсь, что он препобеждает своих противников: я видел меч его, я уверен, что он уже достал себе и щит веры, и камень веры, и пращицу духовную, да отражает и поражает ими латинство и лютерство!
Кстати, получили ли Вы посылку из Ганау? Ее обещал отправить к Вам Копп; это было еще в июле прошлого года, Копп надеялся отдать ее кому-нибудь из русских, его посещающих на возвратном пути восвояси. Жаль, ежели он не нашел верной оказии: эта посылка Вас бы порадовала! Впрочем, она-таки не пропадет: я буду в Ганау в июле, отсюда, накупавшись в волнах морских, отправлюсь опять в Гаштейн, а оттуда опять к Дицу. Мельгунов съездит [?] со мною в Гаштейн: это меня утешает, а там, в Ганау, я как дома, – почти… В Италии мне скучнее, нежели в неметчине, и я то и дело раскаиваюсь, что забрался в эту даль: лекаря здесь дрянные, народ подлый, мерзкий и нищий, скука да и только! Стихи на ум нейдут, когда и соберусь писать – все это не так, как бы на Руси! Жду не дождусь, когда в обратный путь: здоровья, видно, мне уже и во сне не видать, хоть бы домой…
Радуюсь, что Баратынский и Хомяков не оставляют лир своих: не то бы наш Парнас двинулся, как обоз, в котором тысячи немощных калек. Где теперь