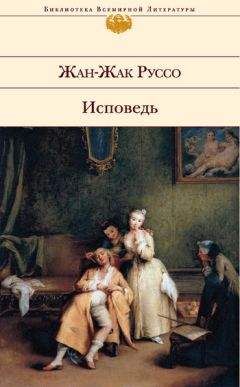Жил он тогда около Люксембургского сада, в тесноватой квартире, с женой и дочерью, стареющей девицей. Мне уже было известно через Вырубова, что у этого позитивиста, переводчика книги Штрауса об Иисусе Христе, жена и дочь — ярые клерикалки. Но у мудрецов всегда так бывает. И у Сократа была жена Ксантиппа. А эти по крайней мере не ссорились с ним и оберегали его спокойствие и материальное довольство. Но и требовательность его была самая философская. Он работал целыми днями в крошечном кабинете, и тут же, на маленьком столике, ему ставили завтрак, состоявший из самой скудной пищи. Работоспособность в этом уже 60-летнем старике была изумительная. Он мог без устали, изо дня в день работать до шестнадцати часов и никуда не ходил, кроме заседаний «Института», где был уже членом по разряду «Надписей и литературы» (и где его приятелем был Ренан), и визитов к вдове Огюста Конта — престарелой и больной; к ней и наш Вырубов являлся на поклон и, как я позднее узнал, поддерживал ее материально.
Литтре, при научно-философском свободомыслии, не был равнодушен к общественным и политическим вопросам. В нем сидел даже немножко инсургент революции 1848 года, когда он с ружьем участвовал в схватке с войсками и муниципальной стражей.
Предметом его ненависти оставался Наполеон III. И эту нелюбовь к Бонапартову режиму распространял он и на великого главу династии. Это был род его «пунктика». Он не только оценивал «корсиканца» как хищного себялюбца с манией величия, но отрицал и его военный гений. По этой части они могли бы подать друг другу руку с Л. Толстым, который как раз в эти годы писал «Войну и мир». Необычайных административных способностей он не отрицал у Наполеона I, а только его военный гений. Литтре молодым человеком состоял секретарем у одного из бывших министров Бонапарта. И тот рассказывал ему постоянно, какой изумительный работник был император и как был одарен для всего, что входит в машину управления.
Судьбе угодно было побаловать Литтре свержением наполеоновской династии 4 сентября 1870 года. Он попал даже и в депутаты.
Но писатель снова заговорил во мне. И опять в драматическую форму вылились оба моих замысла, комедия «Иван да Марья» и драма «Скорбная братия».
Я писал их в часы отдыха от чтений и экскурсий по Парижу. Ни та, ни другая вещь не появились даже в печати. «Иван да Марья» была дана в следующий сезон (как я уже упоминал) в мое отсутствие на Александрийском театре — и без всякого успеха. А драма «Скорбная братия» была скорее повесть в диалогах на тему злосчастной судьбы «братьев писателей». В герое я представлял себе бедного Помяловского, безвременно погибшего от роковой страсти к «зелену вину». Рукопись этой вещи у меня зачитал один бывший московский студент, и я не знаю, сохранилась ли черновая в моих бумагах, хранящихся в складе в Петербурге.
Писал я ее под конец моего житья в Париже. И когда кончил, то пригласил Вырубова и Петунникова, моих сожителей, в ресторан Пале-Рояля, в отдельный кабинет, и там до поздних часов ночи читал им драму. Она им очень понравилась. Но я и тогда не мечтал ставить ее.
В мае по письмам из Петербурга выходило так, что следует ускорить ликвидацию. Мне сделалось самому жутко заживаться за границей, когда надо идти на все те, хотя бы и очень тяжкие, последствия, которые ликвидация могла повести за собою.
Меня начало усиленно тянуть в Россию. Последние деньги, какие у меня еще оставались, я расчел так, чтобы успеть доехать до Петербурга, заехав на два дня в Гейдельберг, где тогда жило семейство той девушки, с которой я мечтал еще так недавно обвенчаться.
Жаль мне было Парижа, почти до слез жаль. Помню, как последний вечер я до поздней ночи бродил по улицам и бульварам, усталый, очутился около церкви Мадлены, сел на скамью и глубоко загрустил. Но ехать было надо. И я поехал.
Мои кредиторы тем временем не дремали. Тотчас по приезде я испытал даже некоторое предвкушение долговой тюрьмы, потому что на полусуток должен был высидеть в канцелярии какой-то части.
Все полгода, с мая по конец декабря, проведенные мною в Москве, я причисляю к моему первому парижскому периоду. О том, что я сделал для удовлетворения моих кредиторов, я уже рассказал в предыдущей главе, но писательская моя жизнь, сначала в Сокольниках, где я гостил в семействе князя А. И. Урусова, потом в Москве, полна была Парижем, тамошними моими «пережитками». Летом и к началу зимы я приготовил к печати две вещи: одну по сценической критике, другую — роман «В чужом поле». И то и другое дано было исключительно моей парижской жизнью. В романе я создал лицо молодого русского, увлеченного Парижем и жадного до всяких наслаждений, влюбчивого, самолюбивого и настолько богатого, чтобы вести более широкую роль «знатного иностранца». Фабула была мною сочинена, но подробности быта в «Латинской стране» и некоторые лица французов и француженок были выхвачены из реальной жизни. Большая статья точно так же заполнена была одним Парижем театров и озаглавлена «Мир успеха». Посвятил я ее памяти М. С. Щепкина. В этом роде у нас еще не появлялось тогда журнальных этюдов.
Сезон в Москве шел бойко. Но к Новому году меня сильно потянуло опять в Париж. Я снесся с редакторами двух газет в Москве и Петербурге и заручился работой корреспондента. А газетам это было нужно. К апрелю 1867 года открывалась Всемирная выставка, по счету вторая. И в конце русского декабря, в сильный мороз, я уже двигался к Эйдкунену и в начале иностранного января уже поселился на самом бульваре St. Michel, рассчитывая пожить в Париже возможно дольше.
Париж еще сильно притягивал меня. Из всех сторон его литературно-художественной жизни все еще больше остального — театр. И не просто зрелища, куда я мог теперь ходить чаще, чем в первый мой парижский сезон, а вся организация театра, его художественное хозяйство и преподавание. «Театральное искусство» в самом обширном смысле стало занимать меня, как никогда еще. Мне хотелось выяснить и теоретически все его основы, прочесть все, что было писано о мимике, дикции, истории сценического дела.
Из Москвы я поехал даже с мечтой… быть может, самому подготовить себя к сцене. До того (хотя я еще в Дерпте считался очень выдающимся любителем) мне сколько-нибудь серьезно не приходила эта мысль.
Для поправления своего материального положения я мог бы выбрать тогда адвокатскую деятельность (к сему меня сильно склонял Урусов, только что поступивший в окружной суд), но я смотрел тогда (да и впоследствии) совсем не сочувственно на профессию адвоката. А она, конечно, дала бы мне в скором времени хороший заработок — я имел все данные и все права, чтобы сделаться «присяжным поверенным». Мечта о сцене была совершенно бескорыстна. Расчеты на выгодную карьеру в нее абсолютно не входили.