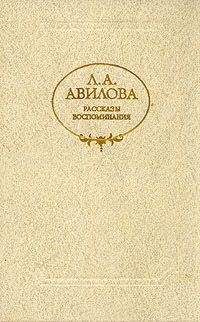Пильщик[19]
Удивительная вещь: мне без него скучно. Лежа ночью, в тишине, я прислушиваюсь, не слышу его и думаю: — Где ты, маленький? Что с тобой? Отчего ты молчишь? Почему ты не работаешь? Погиб ли ты от голода, потому что все съел, что мог? Зазяб ли ты и заснул? или ушел куда-нибудь потихоньку искать себе нового приюта и пропитания? — Я никогда и не видела тебя. Я не знаю, червячок ли ты или жучок, животное или насекомое; есть ли у тебя глазки, хвостик; светленький ты или темненький… Но уж так давно-давно я привыкла к нашей совместной жизни, к твоим привычкам, к проявлениям твоей индивидуальности, что, когда я перестала слышать тебя, мне кажется, что я стала более одинокой. Я подхожу к углу, где стоят твои дрова, где ты жил и работал, но на коре поленьев уже нет новых следов, на полу нет свежих опилок, и все тихо в твоем осиротевшем маленьком царстве между гардеробом и стеной. Как хотелось бы мне знать, умер ли ты или ушел и заснул на время.
Десятого июля принесли и поставили сюда эти дрова: четыре кругляка по полтора аршина каждый. Вечером мне показалось, что кто-то осторожно подпиливает замок у нашей двери. Я тихо подошла к ней, но звук прекратился. Через некоторое время опять стали пилить, а потом и стругать, но едва я подходила, звуки прекращались. Всю ночь продолжалась та же история, и так как я уже оглядела дверь и убедилась, что никто не пытается отворить ее, я уже и не пугалась, а старалась объяснить этот непонятный мне шум. На другое утро весь угол у двери, между гардеробом и стеной был засорен опилками. «У нас завелся пильщик!» — сказал Лева. Пильщик? Так вот как зовут тебя. Но что ты за фигура? Какая у тебя внешность?
Иногда ты работал и днем, но вечер и ночь были твое обычное рабочее время. Ты пилил и строгал так усердно и громко, что, кажется, напугал мышей, и они уже не смели лезть на гардероб за мукой. Анюта иногда кричала мне из кухни: «Работает наш работник!» — «Усердно работает», — отвечала я ей, и мы смеялись.
Иногда нам хотелось видеть тебя, найти, поймать, не для того чтобы причинить тебе зло, а чтобы познакомиться лично, чтобы составить себе понятие о твоей особе. Но как мы ни старались, видеть тебя нам ни разу не удалось. И ты почему-то представлялся мне крошечным-крошечным человечком, одетым в старенькое, с колпачком на голове, очень близоруким, робким, застенчивым чудачком. Мне было жалко тебя за то, что тебе скучно жить, что ты вечно один, в темном углу, бег друга и без света. Мне казалось, что слишком сурова и безрадостна твоя жизнь в вечной работе.
Анюта находила, что ты слишком соришь, а я завидовала тебе в том, что ты делал свое дело упорно и уверенно, не прислушиваясь к чужим мнениям и не сомневаясь в своей правоте. Если ты сорил, то, значит, ты не мог поступать иначе и не мучился тем, что не мог. Нам, людям, так мало дано возможности и власти изменить что-либо в том, как мы проявляем свою личность, а нас мучат и мы мучаемся, и все мы укоряем друг друга, что мы слишком сорим, что мы слишком шумим, что мы занимаем в жизни так много места. Глупый маленький пильщик! Ты не огорчался, потому что не понимал, что о тебе говорят, и спокойно продолжал делать то дело, которое предназначено было тебе природой. Но прошел июль, август, прошла часть сентября, может быть даже весь сентябрь, и вдруг ты стал менее энергично, менее бодро работать. Приходила ночь, а в твоем углу царило безмолвие. «А пильщик-то наш бастует, не работает?» — говорила я Анюте. «Сорит еще, только меньше. Что-то заленился», — отвечала она.
Но скоро ты и совсем перестал сорить, и тихо, скучно стало в углу.
Как узнать, там ли ты еще? Может быть, забился где-нибудь и спишь, пережидая холод, весь съежившись в крошечный комочек, безжизненный и бесчувственный. Или видишь ты сны о лучшей поре твоей жизни, когда жил ты не в темном углу и не в одиночестве, не в мертвых иссохших дровах, а в лесу или саду, с друзьями-приятелями, с женой и детьми. Если снятся тебе такие сны, не просыпайся от них, маленький! Не надо. Дрова твои сожгут, и ты сгоришь с ними. Это ничего. Это лучше, чем проснуться.
Но, может быть, ты умер от тоски и голода? Не увидим мы твоего трупика, как не видели тебя живым. Как жалко, что ты страдал, умирая! Тебе некому было пожаловаться, и никто не умел тебя пожалеть. Да и нужно ли было это тебе? Как мне это знать, если я не знаю ничего о тебе, не знаю даже, были ли у тебя глазки, хвостик, лапки.
Может быть, ты ушел от нас искать себе лучшей доли, но, конечно, ее не нашел и погиб? Но в таком случае ты смолк бы сразу, а не замирал постепенно, заявляя о своем существовании все реже и реже.
Так или иначе ты исчез, но ты остался в моей памяти, и я вспоминаю о тебе с ласковой печалью. Ты, конечно, не был крошечным человечком в колпачке, близоруким и застенчивым, но потому, что ты жил, жило и это мое представление о тебе, и ты ничем ему не противоречил. Это ты создал для меня коротенькую наивную сказочку в темном сорном углу.
Прощай, мой безвестный работничек! Признаюсь, я рада, что твои дрова, в которых ты жил, будут гореть не в моей печке! Мне бы могло представиться, что среди пламени вдруг проснулся бы ты от глубокого сна и скорчилась бы от муки твоя маленькая фигурка в старенькой одежде, в колпачке, с близорукими добрыми глазками, полными укора и страдания. Я не хочу такого конца своей сказочке. И, когда уже унесут дрова, я все-таки буду воображать, что ты остался у нас, забился в какую-нибудь щелочку и спишь сладко и крепко, отдыхая от своих трудов. А так как в сказке все возможно, то возможно, что и нас с тобою ждут лучшие дни не в тесном темном углу, не в разлуке с любимыми.
Но ты не слышишь меня, маленький. Тебя нет. И сказки нет, а если нет сказки, то невозможно невозможное. Как скучно мне, что тебя нет! прощай, глупенький!
В 1922 году Лидия Алексеевна уехала за дочерью в Чехословакию. Весной 1924 года она вернулась с неизлечимо больной дочерью[20] и четырехлетним внуком. В ее бумагах сохранилась запись о возвращении:
«У подъезда нас встретила целая толпа. Все свои, любимые, родные. И эта большая девочка — Наташа? Анюта приняла Мишу из автомобиля прямо на руки. „Мишенька! Милый ты мой!“ — „Миша, это твоя няня!“
Все наши показались мне такими красивыми. Ася, Вавочка… Таких красивых девушек в Кошице я никогда не встречала. Там таких и быть не может! Но разве может быть, что мы приехали, что мы дома, среди своих? Это не сон?
На столе кофе, пасха, кулич, слоеные пирожки… Миша стоит между колен у Левы. Варя гладит его по головке и говорит: „Да какой же ты большегла-а-зый!“ Анюта хихикает. Аня обняла Ниночку, и они о чем-то шепчутся. Надя рассказывает, что нас встречали уже неделю назад. Сережа чему-то тонко смеется. Наташа притащила свою игрушечную лошадь и поставила перед Мишей: „…это теперь твоя!“ Я все вижу, все слышу, но… я еще не верю. Какой-то туман в голове. А если это только яркий сон? Разве бывает такое счастье?»