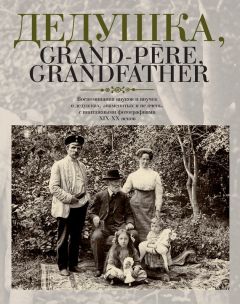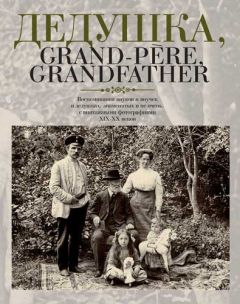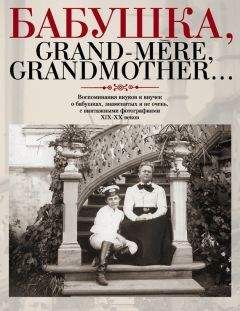Однажды, уже в начале пятидесятых годов, вскоре после моего приезда из Москвы, дед с бабушкой — да, впрочем, и все их соседи — были невероятно перепуганы, хотя, казалось бы, их вообще никак не задевало произошедшее: кто-то намалевал фашистскую свастику на дверях типографии на другой стороне улицы, напротив их дома. А страх в доме повис на несколько дней. Было это году в 1952-м. Тогда дедушка еще ходил на работу в бухгалтерию. До ухода аккуратно брился опасной бритвой, взбив мыльную пену помазком, сидя перед маленьким зеркалом. Потом надевал чистую рубаху, пиджак, обязательно нарукавники, прощался с нами: «Ну, Варенька, я пошел». «Бог в помощь, Коленька», — отзывалась бабушка, крестя его вслед. Провожала его до угла улицы и наша кошка Муляша, большая, крупноголовая, пушистая, уютная. Она хорошо знала расписание дедова дня, а потому в обед, как часы, деловито бежала на тот же угол — встречать деда. Он всегда разговаривал с нею, гладил, она закручивалась восьмеркой вокруг его ног, распушив хвост, будто лучась, преданно глядя вверх, на деда. После обеда снова провожала деда на работу, а в конце рабочего дня, часа в четыре, снова терпеливо сидела на углу, лишь временами озираясь, нет ли какой шалой собаки?.. Бухгалтерские счеты, эта таинственная, древняя конструкция с черными и желтыми костяшками на поперечных проволоках, имелись у деда и дома. Дед порой садился за стол на кухне и задумчиво перещелкивал косточки. Конечно, он считал каждую копейку. Всю жизнь, как говорила мама, дед получал зарплату всего в 45 рублей. Этого катастрофически не хватало на жизнь. Тетка же сказала недавно, что деду с бабкой в двадцатые — тридцатые годы помогал бабушкин старший брат: он работал чуть ли не главным ветеринаром в Узловой, жил на казенной квартире при лечебнице, а детей у него с женой не было. Вот они и просили деда отдать им на воспитание его третью дочку Александру, но ни дед, ни бабушка не хотели этого, хотя сами ведь в конце тридцатых взяли на целых пять лет свою московскую племянницу. В общем, в доме всегда было много детей, а значит, много шума-гама, порой обид и слез, порой веселья, а порой и интриг. Деду приходилось справляться с целым сонмом девчонок. Мама вспоминала, что он был строг и его побаивались. Если очень уж дети расходились, мог и за ремень схватиться, но лупить все же не лупил, прибавляла мама.
— А знаешь, внучек, я ведь в карауле стоял у Зимнего, был часовым, — сказал мне как-то дед, когда мы с ним, уже после его переезда в Москву, шли осенью 1956 года в библиотеку за бульваром на Серпуховском валу, чтобы сдать, как сейчас помню, биографию Ганди.
Слева направо: в верхнем ряду — моя мама, Галина, и ее младшая сестра Александра; в среднем ряду — бабушка Варвара Семеновна, дед Николай Федорович и их старшая дочь Татьяна; в нижнем ряду — я, Наташа с куклой и малышка Женечка (две дочери моей тети Тани), 1952
Николай Федорович Белугин, 1933
Я тогда, прямо скажем, немало этому удивился, даже не поверил ему. Мой обыкновенный дедушка — нет, любимый, самый хороший, но ведь никакой не герой, даже мне было понятно — и принимал участие в грандиозных, бурных революционных событиях?! Ведь когда свергали царя, пришлось брать штурмом Зимний дворец, оплот царизма, и так далее и тому подобное… Я же твердо «знал», как все при этом было «на самом деле», я сам «видел», как брали Зимний, как толпы революционных матросов чествовали вождей революции. У нас уже в начале пятидесятых появился телевизор Т-2 «Ленинград» с маленьким экраном и огромной линзой перед ним, наполненной жидким вазелином, и я не раз видел по нему фильмы «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году» со знаменитым актером Щукиным в роли великого вождя (удивительная случайность, но это факт: отцу актера до революции принадлежал буфет на железнодорожном вокзале все в том же Веневе!).
В общем, несколько удивившись словам деда, я даже не стал его больше ни о чем расспрашивать. Сам он, как и мой отец, человек осторожный, больше ничего мне не рассказал. Правда, в памяти моей остались такие его слова: «Скоро исполняется сорок лет Октябрьской революции. Вот увидишь: пойдут по дворам — стариков расспрашивать, как все на самом деле было. Я расскажу, что видел». Ох, наивный был у меня дед. Никто к нам не приходил, никто моего деда ни о чем не расспрашивал.
Умер дедушка в июле 1957 года. Мама, помню, говорила, что его профилактически (летом всегда меньше больных) положили в находившуюся рядом с нами Четвертую градскую, «нашу», больницу, чтобы подлечить. Там санитарка как-то повела его помыться. Душ был в другом корпусе, погода стояла невероятно жаркая, вот она и включила одну холодную воду (а может, как это бывает летом, горячая вообще была отключена). Дед, как всегда покладистый и ко всему терпеливый, вымылся под душем, при открытых окнах, на сквозняке. Мама говорила, что он по своей скромности просто не способен был попросить санитарку отрегулировать воду: он ведь вообще считал, что надо все терпеть, был к этому приучен всей своей жизнью — другого не было дано. «Бог терпел — и нам велел» была его любимая поговорка. Сгорел он от воспаления легких буквально за два дня. Помню страшную, испепеляющую жару, жирную, будто удушающую листву, ощущение невероятной мощи и одновременно бессилия в природе.
Казалось бы, на этом можно поставить точку. Оказалось — нет. Поехал я в начале семидесятых в Нижний Гульрипш, в Абхазии, к югу от Сухуми. Пробыл там весь отпуск, вернулся.
— Ну, как тебе понравилось? — спросила мама.
— Ты знаешь, удивительно хорошо! — отвечал я. — С первого момента, когда еще по дороге туда, проезжали Сочи, было странное ощущение, что я это уже когда-то видел. Этот влажный, теплый воздух, будто плывешь в каком-то душистом супе с большим количеством лаврового листа. А кепки-«аэродромы» вдруг оказались удивительно родными и близкими… Даже свиньи с надетыми на шею деревянными треугольниками, чтоб не пролезли на огород сквозь забор… Даже эта деталь была знакомой. В общем, будто на родине побывал.
Так разглагольствовал я, не замечая, какое странное выражение появилось вдруг на мамином лице. Наконец я замолчал, и тут она мне сказала:
— Понимаешь, какое дело… Ну, в общем, мне бабушка рассказывала, то есть моя бабушка, а твоя прабабушка, что какой-то наш пращур когда-то ходил на персидскую войну и оттуда вернулся в Венев с… женой. Ее крестили, понятное дело, но вела она себя не как принято у русских: например, как только приходили в дом чужие мужчины, она отправлялась на заднюю половину и там оставалась, пока не уйдут. И вообще, говорят, будто ходила всю жизнь в платок замотанная, как в паранджу, что ли. А Белугиным тогда дали прозвище — Шаховы. Ну, знаешь, как в деревнях всем дают людям прозвище, помимо имени-фамилии. Только вот была ли она действительно персиянка или кто еще, я не знаю. И бабушка наша не знала.