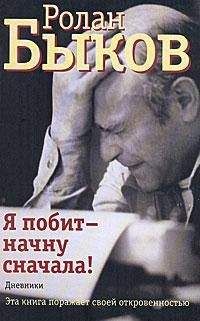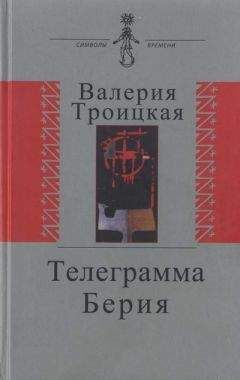Я знаю одно: должно быть сопереживание зрителя, должна быть личность, ибо только сохранение Ларсеном в себе личности делает картину надеждой. Умозрительность Ларсена и всего фильма — это не только гибель всего предприятия, это еще и издевательство и глумление над слишком серьезными проблемами мира.
Я не могу продолжать никаких съемок, пока не будет смонтирован по максимуму весь материал, пока у самого Лопушанского не возникнет ясность все по тем же неясным вопросам, которые были неясны с самого начала:
1. Кто есть Ларсен и о чем, для чего фильм?
2. Что произошло на острове?
3. Что произошло с детьми?
Сегодня, например, неясно, зачем сцены в приюте пастора? Информировать о том, почему детей не взяли в убежище, можно и потом, как это уже есть сейчас. Надо поговорить с Мушиджиновой откровенно. (Или не надо?) Что делать, я не знаю, мы идем к провалу.
Напишу Косте письмо, покажу его Мушиджиновой. Так? А не является ли это неэтичным?
Как интересно!
Съемку отменили — оказалась неготовой «декорация». Проверить можно было только на съемке. Почему? Почему не с утра? Почему не вчера? Зачем было меня вызывать, да еще накануне?
Махровое хамство продолжается. Костя, как я понимаю, не готов ни к разговору, ни к съемке. Он так и не понял, что происходит: и Мушиджинова, и я, стукаясь о него головой, как о стену, и Авербах, который ругал материал, и Медведев, который хвалил материал, — все говорят ему об одном и том же: неясно, о чем речь, нет героя, нет того, с кем сопереживать.
А потом Костя предаст меня, как предал Майорову: когда сцена у него не получилась, он сказал, что сцена вообще не нужна.
Ему сейчас кажется, что она не получилась оттого, что он сделал ей язвы — от этого она проиграла. Сцена получилась, когда я определил, как ее снимать, и помог актрисе сыграть и найти физическое состояние.
Но не в этом дело! Ни вчера, ни сегодня он не нашел нужным вступиться, рассказать сцену, оговорить ее, я уже не говорю — отрепетировать. Он не постеснялся сказать мне, что он устал.
Зол, рассержен, обижен и взвинчен я необычайно. Мне 55, за это время, что он снимает, я снялся в двух ролях, побывал в Бухаресте и на Кавказе и 10 дней отболел (4 дня с капельницей).
Черт подери — не могу уступить! Вторую ночь не сплю из-за этого ублюдка. Он по природе своей предатель.
20.08.85 г.
Это странное мстительное чувство к Косте и ко всей группе надо как-то преодолеть. Работу надо заканчивать, как и начал, -с большим желанием результата. Но, может быть, именно для того, чтобы картина получилась, надо поприжать Костю. При всех случаях, надо определить объем работы.
Они даже не сказали, когда съемка. Позвонили «две студентки из университета» о том, что они написали сценарий о Высоцком, — от них я узнал, что у меня выезд после 12. (Алла любезно дала им мой телефон.)
01.09.85 г. Румыния
Не забыть поезда: румыны, шум, смех, визг, в коридоре поезда — свой дом, в тамбуре только они — ехали у нас на голове, одним словом.
Потом история на таможне: у них отобрали по дороге «туда» мешок кроссовок. В Чопе отдавали... Я ходил звонить Лене — все видел своими глазами: на перроне вывалены кроссовки, трое таможенников молча наблюдают, крупный пожилой румын «по счету» собирает белые кроссовки в огромный мешок... а потом посреди вагона кроссовки вываливали снова и часа полтора разбирали — чьи, узнавая по размеру и оттенкам...
Да! (Въехали в Молдавию — все к окнам: «Молдова! Молдова!» — это слово по нескольку раз произносил каждый, и то же самое повторилось при остановке в Кишиневе: «Кишинеу, Кишинеу!».)
Часа три шмонали их наши таможенники и почти столько же румынские. Поезд опоздал на 5 часов.
Дороги в горы... О наш автобус стукается «микрик». Я слышу удар, смотрю назад и вижу, как он съезжает в кювет, его заносит и он переворачивается. Наш автобус мчится дальше. Темно!
Хлещет ливень! Кричу — остановите, вернитесь, может, нужна помощь. Разбираемся, водитель говорит, что не чувствовал удара. Стоим. Развернуться на узком шоссе сложно. Мчат машины (суббота! курорт! все на дачи!). Разворачиваемся... Но ранее подбегает румынка — оказывается, это наш «микрик» (румынской студии), в котором ехал Усков, оператор, художник...
Первое сообщение: все живы... Хлещет дождь, капли бьют, как град... Все-таким разворачиваемся, подъезжаем... человек шесть бросаются к «микрику», я со всеми. Заглядываем в «микрик», он пуст. Ужас! Видим рядом вагончик — люди там. Выясняем: Усков и переводчица, у которой пострадала нога — была лужа крови, — уехали на легковой. Оператор, художник и еще трое сели в автобус. Художник в позицию — молчит. Оператор ведет себя как мужчина, улыбается, но, как оказалось, не помнит, как и через какое стекло вылез. Пытаемся поставить машину на колеса, чтобы шофер не отвечал и мог сказать — ударил бензовоз. Не можем. Пререкания — просят канат. Шофер говорит, чтобы все вышли, с людьми риск. Сговорились, что оставят грузовик. Перевернули. Все промокли насквозь. Переодеваюсь в сухое. Старого румына-шофера трясет. Долго. Сижу с ним, обнимаю, грею телом. Он пошел на обгон, нарвался на встречную, дал вправо, ударился в наш автобус и т.д. (Деталь: на радиатор при перевороте попала вода, пошел пар, шофер стал орать: вылезайте, сейчас взорвется мотор. Рассказывая это, наши забывают, что он кричал по-румынски и они его не понимали, — этим они оправдывали то, что никто никому не помогал: все торопились выскочить сами.)
Приехали в гостиницу (кстати, отвратительную), Усков «весь в картине» — носится, говорит, планирует...
Потом долго сидели у Иры в номере, пили чай. Разошлись только сейчас, в 1 ч. 45 мин. местного времени. Вставать в восемь.
В поезде говорил сам себе монологи Ларсена, не записал. Как мне кажется, получилось. Одна мысль неплохая. Сегодня наука будет двигаться вперед, или так:... забыл... Приблизительно так: отныне науке нужны не только знания и человеческий гений, не только мощное объединение умов и координация действий, но и огромная боль души, великое человеческое смятение... Точные науки оказались самыми неточными, каменная душа науки отошла в прошлое, как каменный век. Объективности нет — это абстракция! Вера должна стать наукой, наука — верой. Идея кентавра не нова. Родится кентавр с крупом науки и головой веры, родится кентавр с крупом веры и головой науки — от них произойдет новый человек, уже не кентавр, а великий человек, постигший идею спасителя.
Спасение более не мечта, не миф, не идея, спасение — это институты, заводы, производство; наука, как машина времени, изучит древние образы и весь путь человеческого духа, исследует космос самого человека, духообразования, феномен детства и приход к лавине апокалиптического сознания.