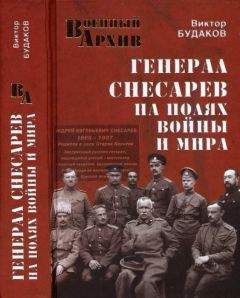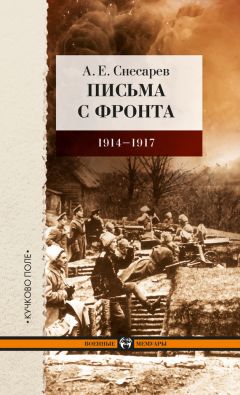Читает мало. Удаётся познакомиться с лекцией Евгения Трубецкого — прекрасной, на взгляд Снесарева, и этот эпитет в его устах вполне понятен: ему были близки идеи о духовно-культурной самобытности России. Вскоре прочтение — иного рода: «Начал знакомиться с коммунистическими евангелиями; прочитал Манифест коммунистов (Маркса и Энгельса) и подивился невежеству и самоуверенности этих двух пророков… некоторые страницы нельзя прочитать без улыбки».
Постоянно думает о семье, вполне убеждённый, что в Петроград ей не следует возвращаться, о чём не забывает письменно напомнить жене: «Я думаю, что тебе надо оставаться в Острогожске… Кроме же Острогожска, куда же тебе деться?» И о другом сердце болит. У его семьи есть радушный притул-уголок в уездном городке, но миллионы тех порядочных, не крикливых, не заграбастых, кто потерял в лихолетье свои дома и хижины, свой скарб, свой служебный статус, куда им? Им-то куда?
Письма первых чисел осени 1917 года свидетельствуют, что и у самого Андрея Евгеньевича настроение не из радостных, да и откуда ему было взяться, если лучшее в Отечестве губилось, худшее, подобно полчищам сороконожек, оскверняло ниву и душу Родины.
«Только что объехал поля, где производятся занятия двух моих полков… Была у солдата нашего душа, да ещё какая душа — беззаветная, мужественная, стойкая, мировая, а теперь кто-то подкрался к нашему солдату и выкрал — нет мало — вырезал его душу, и осталась там пустота. И как к этой пустоте подойти, как её взволновать, как её поднять на подвиг, как в неё всунуть лик родины, никто не знает: секрет потерян».
«…для всякого благомыслящего и смотрящего несколько вперёд картина ясна: страна идёт к экономическому и политическому краху… в мои годы и с моим кругозором трудно человеку замкнуться в личное счастье; судьбы общего, большого, страны властно стучатся в сердце… если в моё сердце, маленькое и ограниченное, как в сердце всякого человека, нашла себе дорогу общая скорбь, массовое горе, необъятная болезнь, переживаемая страной, что же тогда делается с моим бедным сердцем, как ему скорбно, как ему тяжко, как ему страшно. И что же удивительного, что сны неясно-спутанные, дикие тревожат мой сон, что ночью я просыпаюсь внезапно, как от кошмара, и долго лежу с открытыми глазами… и тогда стану я у какого-либо дерева, стою минуту за минутой и смотрю на голубое небо, туда, где мысль простых людей располагает стопы создателя миров, и мои сухие губы шепчут: “Спаси и сохрани, Ты, пострадавший за нас на Кресте”».
«Был сегодня в церкви… Певчие пели очень хорошо, некоторые вещи очень тихо. Батюшка сказал краткое слово о Богородице как защитнице всех страждущих и трогательно закончил своё слово фразой: “Царица Небесная, спаси русскую землю”».
На этом фоне служебные успехи и чиноповышения представлялись мелкими, малонужными, и Снесарев не особенно сокрушался, когда его назначение начальником штаба армии не состоялось из-за девятидневной задержки в Ставку телеграммы с его согласием. Правда, вскоре он был назначен на должность командира корпуса, но он-то понимал, что в текущем мутном потоке мало что значит стать и командиром корпуса.
Два месяца, с сентября по ноябрь 1917 года, Снесарев — командир Девятого армейского корпуса. Сначала ему предложили командование Двенадцатым, что его вполне устраивало: корпус был ему хорошо знаком. Но потом было приказано принять Девятый корпус в составе Второй армии. А это уже Западный фронт, который, признал Снесарев, два года опытов не имеет, разве что отрицательные.
Некоторые офицеры не побывали и в десятке боёв. Разумеется, им было дивно услышать, что их новый комкор провёл семьдесят пять боевых операций. Стотысячный корпус с конным парком в тридцать пять тысяч лошадей дислоцировался между Выгановским озером и станцией Барановичи на ломаной полосе в шестьдесят с лишним вёрст.
Репутация у корпуса не самая плохая. До Снесарева им командовали военачальники также незаурядные — Щербачёв, Драгомиров, Киселевский, более слабый Тележников (Шрейдер). Поначалу Снесарев несколько стеснялся приказывать целому созвездию генералов, бывших старше его годами, но вскоре освоился; да и не в том была неловкость для всех, а в том, что без прямого военного дела корпус обесцвечивался. Работы — в сутки вместить бы ещё одни сутки, и то всего комкору не переделать. Он понимал, что самое трудное повлиять и на обстановку, и на людей непосредственно, для чего требовалось хотя бы раз быть увиденным и услышанным. Но слишком разбросан корпус, он, давно не воюющий, словно усыплён у этого болотистого Выгановского озера.
А что такое подвижный, изготовленный к битвам, волевой корпус — не для Снесарева объяснение, прекрасно знавшего военную историю, знавшего, например, что корпус французского маршала Даву одним сражением под Ауэрштедтом в 1806 году, в сущности, решил участь Пруссии — стать привязанной к колеснице Наполеона, а другой наполеоновский маршал Мюрат одним своим корпусом вошёл в Рим, дабы исполнить императорское повеленье: упразднить тысячелетний Ватикан как государство.
Но там были иные пространства. Иная реальность. Иные времена.
В письмах и дневниках Снесарева — его раздумья и строки о литературе и слове, о больших именах и географических точках-названиях, о русском народе и других народах.
Снесареву, как всякому нормально чувствующему человеку, было бы всё одно больно, кто бы ни истерзал в недобрый час его далёкую родственницу-отроковицу из тринадцатого, пятнадцатого и любого века: монгол, или венгр, или московит (русский разбойник). Одинаково мучительно. Равно как и подвиг во имя человека и человечества — кто бы его носитель ни был, радость и гордость за него. Хотя, разумеется, ближе соотчич, представитель родной страны. Разумеется, ему было в гордость, что, скажем, «Братьев Карамазовых», создал его соотечественник. Но кто приемлет гордость за отечественное, за его органические вершины, приемлет и ответственность за его трясины, бездны, котлованы, из которых нередко вырастают уродливые пирамиды и башни прогресса.
Славянство — его постоянная дума и боль. Он слишком глубоко постиг геополитические реальности, проницательно узрел будущий геополитический облик мира, чтобы наивно верить в особый славянский путь и разделять славянофильские, тем более панславистские иллюзии. Но он прекрасно знает открытую миру сердечную культуру славянских народов. Он любит и поёт не только русские песни, но и украинские, белорусские, сербские.
Снесарев часто обращается к другим нациям. Он встречается с представителями десятков больших и малых народов, понимая, что они, пусть дурные, пусть хорошие, ещё не весь народ. Более того, он полностью разделяет слова Льва Толстого из «Воскресения»: «Одно из самых обычных и распространённых суеверий то, что каждый человек имеет свои определённые свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и т.д. Люди не бывают такими… Люди как реки, вода во всех одинакова и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то тёплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских…»