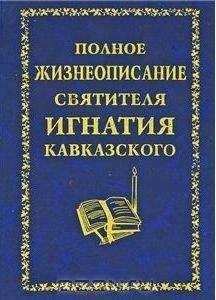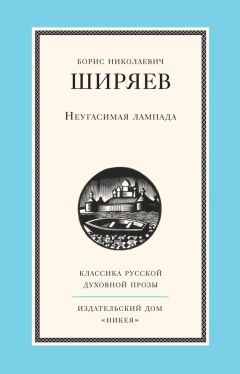Не проходило дня, чтобы Гоголь не виделся с ней. Немного поработав утром в своей комнате у графини Вильегорской, он шел на прогулку в одиночестве вдоль берега моря, вздыхал морской воздух для укрепления здоровья, покупал засахаренные фрукты и с пакетиком в руке приходил на обед к Смирновой. Завидев тонкое лицо Гоголя, французская кухарка кричала во все горло, чтобы ему сообщить некоторые особенные блюда меню: «Мсьё Гого, мсьё Гого (так она его называла), редиска и французский салат!»
После обеда Гоголь вытаскивал из кармана толстую тетрадь, куда он переписал отрывки из сочинений Отцов Церкви, и читал их своей хозяйке, которая, обессилев, слушала его со слезами на ресницах. Он также специально переписал для нее четырнадцать псалмов, которые она пообещала выучить наизусть. По его приказу она их читала, держа голову прямо, смотря ему в глаза. Если она ошибалась, он со всей строгостью учителя говорил: «нетвердо!» и наказывал выучить урок к следующему дню. Чувствуя жалость к тому, что он живет в такой крайней бедности, она спросила его однажды, из чего состоял его гардероб. Хватает ли ему белья, галстуков? «Я вижу, что вы просто совсем не умеете отгадывать, – ответил он. – Я большой франт на галстухи и жилеты. У меня три галстуха: один парадный, другой повседневный, а третий дорожный, потеплее». И он призвал ее отказаться от большинства своих платьев и побрякушек и оставить, как он, только самое нужное. Она ему поклялась, без особого убеждения, воспользоваться его советом. Иногда, чтобы ее вознаградить за старания, он читал некоторые страницы из второго тома «Мертвых душ», за который он только недавно взялся. Во время одного из таких чтений, когда в воздухе почувствовалась гроза, он захлопнул тетрадь, и в этот момент прогремел гром над его головой. Он побледнел, закрыл глаза и задрожал. Гроза прошла, и Смирнова попросила его продолжить чтение. «Сам Бог не хотел, чтоб я читал, что еще не окончено и не получило внутреннего моего одобрения… Признайтесь. Вы тогда очень испугались?» – «Нет, хохлик, это вы испугались», – сказала она. – «Я-то не грозы испугался, а того, что читал вам, чего не надо еще никому читать, и Бог в гневе своем погрозил мне».[386]
Несмотря на наказ неба, он продолжал с трудом работу над своим романом.
«Гребу решительно противу волн, иду против себя самого, т. е. противу находящего бездействия и томительного беспокойства… – писал он Языкову.[387] И своих друзей убеждал: „Пишите, поставьте себе за правило хоть два часа в день сидеть за письменным столом и принуждайте себя писать…“ – „Да что ж делать, если не пишется?“ – возражал ему Соллогуб. – „Ничего… Возьмите перо и пишите…“ – отвечал он».[388] Пока, несмотря на такую строгую дисциплину, второй том представлял из себя, по его личному признанию, один только «хаос». Такой же хаос царил в голове. Он уже так четко не видел ни продолжение поэмы, ни дальнейшую свою жизнь. Его беспокоило и то, что он испытывает удовольствие от общения со Смирновой. Никогда ни одна женщина не притягивала его физически. Он относился к ней с любовью только за ее душу. И хотя, надо признать, что она, ко всему прочему, была очень привлекательна, он не считал, что ему находиться с ней опасно. Так же, как он сидел когда-то у изголовья молодого и красивого Иосифа Вильегорского, священная миссия ограждала его от слабостей чувств. Уверенный в своей правоте, он в полной уверенности наслаждался легкой остротой соблазна, зная, что последствий этому не будет. День за днем исповедуя и журя свою грешницу, он ее нравственно раздевал, с удовольствием себе не позволяя малейших прикосновений, малейших пристальных взглядов. Она вверялась ему, открывалась ему с неким христианским кокетством, дозируя свои признания, вымаливая советы, трепеща от мысли, что у жизни не будет «будущего». Во время таких животрепещущих разговоров чаще всего наименее осторожно вела себя Александра Осиповна. Однажды она посмела полусерьезно-полушутя сказать ему: «Послушайте, вы влюблены в меня…» Гоголь побледнел от гнева, пулей вылетел из комнаты и не появлялся в течение трех дней.[389]
Когда он вернулся, эта фраза внешне была забыта. Но он вспоминал о ней со страхом и наслаждением. Его отношения со Смирновой стали еще более тесными, оставаясь платоническими. Кое-кто из его окружения шептался, что он еще в совсем юном возрасте имел наедине плохие привычки, которые и привели его к отдалению от женщин. Другие утверждали, что он остается девственником из принципа. Он же сам приводил моральные и религиозные причины, по которым он не признает чувственной любви. Однако он мог бы с тем же успехом осудить все наслаждения, которые мы получаем от жизни. Он же очень любил хорошо поесть; имел особую страсть к ярким краскам, к ярким зрелищам, к эксцентричной одежде; у него было такое острое чувство обоняния, что он то и дело говорил о своем носе; любил рассказывать сальные анекдоты; искал общества красивых женщин; но в их присутствии всегда был начеку. Неспособный иметь отношения с женщиной, он ссылался на Бога, чтобы оправдать свое поведение. Достаточно им было только попытаться его обмануть, как они сразу становились для него воплощением дьявола, вместилищем порока. Отступая перед их плотскими формами отношений, как перед опасностью, он снова погружался в успокоительные мечты о каком-то небесном создании. Сила его воображения мстила ему за слишком давящую реальность. Он довольствовался бестелесыми ангелами. Госпожа Смирнова умела быть таким ангелом, оставаясь при этом живой, осязаемой для его глаз. Чем больше он ее узнавал, тем больше любил. Он восторженно пишет Языкову: «Это перл всех русских женщин, каких мне случалось знать, а мне многих случалось из них знать прекрасных по душе. Но вряд ли кто имеет в себе достаточные силы оценить ее… Она являлась истинным моим утешителем, тогда как вряд ли чье-либо слово могло меня утешить, и, подобно двум близнецам-братьям, бывали сходны наши души между собою».[390]
Поразившись такому поэтическому излиянию чувств, Языков написал своему брату: «Ты, верно, заметил в письме Гоголя похвалы, восписуемые им г-же Смирновой. Эти похвалы всех здешних удивляют. Хомяков, некогда воспевший ее под именем „Иностранка“ и „Девы розы“, считает ее вовсе не способной к тому, что видит в ней Гоголь, и по всем слухам, до меня доходящим, она просто сирена, плавающая в прозрачных волнах соблазна».[391]
Аксаков отметил со своей стороны: «Смирнову он любил с увлечением, может быть, потому, что видел в ней кающуюся Магдалину и считал себя спасителем ее души. По моему же простому человеческому смыслу, Гоголь, несмотря на свою духовную высоту и чистоту, на свой строго монашеский образ жизни, сам того не ведая, был несколько неравнодушен к Смирновой, блестящий ум которой и живость были тогда еще очаровательны».[392]