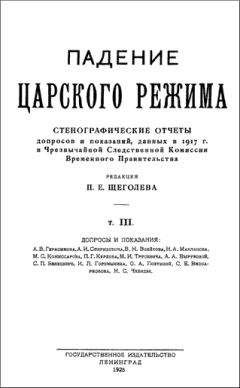Организатором III Отделения был Фок. То был старый полицейский волк, начавший службу еще при Балашове и под непосредственным руководством де Санглена. Воспитавшись в школе последнего, он сменил его и оставался на посту директора канцелярии сначала Министерства полиции, а потом внутренних дел и со всем своим аппаратом перешел в III Отделение. «Я был знаком с директором особенной канцелярии министра внутренних дел (что ныне III Отделение канцелярии государя) Максимом Яковлевичем фон Фоком, – писал Н. И. Греч, имевший, правда, особые причины симпатизировать столпам жандармского корпуса, – с 1812 года и пользовался его дружбою и благосклонностью. Он был человек умный, благородный, нежный душой, образованный, в службе честный и справедливый… Бенкендорф был одолжен ему своею репутацией ума и знания дела…» Оставляя в стороне панегирик Фоку (хотя не только Греч, но и почти все мемуаристы того времени отзываются о нем довольно сочувственно[10]), мы не можем пройти мимо последнего замечания Греча, человека достаточно сведущего во внутренних взаимоотношениях III Отделения.
Фок явился в III Отделение во всеоружии полицейских методов александровского периода. Но времена настали иные. Возвысив полицию до роли высшего государственного органа страны, Николай стремился придать ей некоторое благообразие. Недаром сохранился анекдот о платке для утирания слез обездоленных, который был им вручен Бенкендорфу в качестве инструкции.
Старые полицейские методы вызывали недовольство дворянства, и, перестраивая полицейский аппарат, правительство стремилось вовлечь побольше офицеров и дворян, привлечь интерес благородного сословия к жандармской службе. «Чины, кресты, благодарность служат для офицера лучшим поощрением, нежели денежные награды», – писал Бенкендорф в цитированной выше записке 1826 года. Деятели старой школы недоумевали и не могли воспринять нового направления. В 1829 году великий князь Константин писал Бенкендорфу: «Вам угодно было написать мне о жандармской службе в бывших польских провинциях и сообщить также о выгодах, кои последовали бы для этой службы в Вильне, если бы штабс-капитан Клемчинский мог быть назначен туда в качестве адъютанта при начальнике отдела; тем более, что, будучи уроженцем края, он мог бы иметь удобнейшие отношения в нем, при своих связях, интересах и родстве, а также благодаря хорошей репутации, которою он там пользуется».
По мнению великого князя, именно эти причины свидетельствовали о непригодности этого офицера. Но искавшее популярности у дворянства правительство шло своим путем. Недаром Герцен заставляет председателя уголовной палаты говорить о Бельтове: «Мне, сказать откровенно, этот господин подозрителен: он или промотался, или в связи с полицией, или сам под надзором полиции. Помилуйте, тащиться 900 верст на выборы, имея 3000 душ!» Богатый и образованный помещик был, конечно, желанным рекрутом для жандармских вербовщиков[11].
Фок быстро почуял новую моду и начал к ней приспособляться. В своих письмах Бенкендорфу летом 1826 года он рекомендует шефу новых сотрудников, набираемых из рядов столичного и провинциального дворянства… При Фоке начался процесс создания благородного и чувствительного полицейского в голубом мундире, но окончить создание этого типа Фок не мог: слишком крепка была в нем привязанность к старым методам работы, к агентам, набираемым из подонков общества, покупаемым деньгами и угрозами.
В 1831 году Фок умер и был заменен Мордвиновым. К сожалению, мы не располагаем данными о роли Мордвинова в III Отделении. Характеристику его, мимоходом, дал Герцен, считавший, что Мордвинов был единственным в жандармской среде «инквизитором по убеждению». Но уже в период владычества Мордвинова фигура его стала отходить на задний план по сравнению с им же рекомендованным Дубельтом. Кончилось тем, что Дубельт заменил Мордвинова и надолго олицетворил в себе одном все III Отделение.
Леонтий Васильевич Дубельт был фигура незаурядная. Вряд ли кто-нибудь из его коллег удостоился бы характеристики, подобной той, которую он получил от Герцена: «Дубельт – лицо оригинальное, он наверное умнее всего Третьего и всех трех отделений собственной канцелярии. Исхудалое лицо его, оттененное длинными светлыми усами, усталый взгляд, особенно рытвины на щеках и на лбу ясно свидетельствовали, что много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир победил или, лучше, накрыл все, что там было. Черты его имели что-то волчье и даже лисье, т. е. выражали тонкую смышленность хищных зверей, вместе уклончивость и заносчивость».
В 20-х годах Дубельт был свободомыслящим: он состоял членом двух масонских лож и даже был привлечен по делу декабристов. Может быть, и не без труда сменил Дубельт свой армейский мундир на жандармскую лазурь, но имеющиеся в нашем распоряжении материалы свидетельствуют скорее о высокой степени лицемерия пред самим собой, чем о борьбе страстей в этот знаменательный момент его жизни. Жене своей, боявшейся, что он замарает свое имя и честь жандармской службой, он писал: «„Не будь жандарм“, – говоришь ты! Но понимаешь ли ты, понимает ли Александр Николаевич (Мордвинов. – И. Т.) существо дела? Ежели я, вступя в Корпус жандармов, сделаюсь доносчиком, наушником, тогда доброе мое имя, конечно, будет запятнано. Но ежели, напротив, я, не мешаясь в дела, относящиеся до внутренней полиции, буду опорою бедных, защитою несчастных, ежели я, действуя открыто, буду заставлять отдавать справедливость угнетенным, буду наблюдать, чтобы в местах судебных давали тяжебным делам прямое и справедливое направление, – тогда чем назовешь ты меня?»
Мы знаем, как мало вмешивался Дубельт в «дела, относящиеся до внутренней полиции». И только особому, свойственному ему сентиментальному лицемерию можно приписать и эти чувствительные строки, и многое в его позднейших поступках. Правда, ему нельзя отказать в некоторых положительных чертах, но общая его характеристика верно дана Герценом, проницательно обнаружившим под маской учтивости и благосклонности подлинный волчий облик Дубельта. Они поняли друг друга: недаром Дубельт с такой нетерпимостью относился к одному только упоминанию имени Герцена[12].
В 1913 году были опубликованы «Записки» Дубельта, давшие некоторым историкам основание заподозрить его в «убожестве мысли». Действительно, эти записки, вернее, афоризмы чрезвычайно плоски и никак не поднимаются над уровнем официальной идеологии николаевской России. Мы, однако, полагаем, что записки эти писались Дубельтом для чужого употребления, а не для себя. Поэтому он и прикидывался глупее, чем был на самом деле. Иначе нельзя объяснить то впечатление, которое он производил на современников, притом достаточно ему враждебных. Если Герцен раскусил лицемерие Дубельта, притворявшегося добряком и любившего, чтобы к нему обращались с ссылками на «всем известную его доброту», то на других Дубельт умел производить чарующее впечатление. Известный польский революционер Сераковский, познакомившись с Дубельтом непосредственно перед заключением в крепость, писал ему: «Генерал! Счастливы юноши, что Вы стражем порядка. Вы старик, но с верующею, неугасающею душою. Я уже решился! Выслушайте меня сами, зайдите ко мне сами, генерал. Богу помолюсь за Вас!»
Своей учтиво-сентиментальной манерой Дубельт умел привлекать к себе допрашиваемых: Ф. М. Достоевский, привлеченный по делу петрашевцев, называл его «преприятным человеком». Отзывов такого рода немало. Внешнее лицемерие, образцы которого жандармам преподавал Николай I, стало официальным тоном III Отделения.
И именно Дубельт, окончательно сформировав аппарат жандармерии, завершил и создание типа «благородного жандарма».
Назначенный жандармским офицером в Симбирск, Э. И. Стогов следующим образом рисует разницу между жандармами «старой школы» и им как представителем нового поколения: «Доверие и уважение к жандармскому мундиру в Симбирске было разрушено. Передо мной был полковник Маслов, тип старинных полицейских. Он хотел быть сыщиком, ему казалось славою рыться в грязных мелочах и хвастать знанием семейных тайн. Он искал случая ко всякому прицепиться, все стращал, делал истории, хотел властвовать страхом и всем опротивел… Таким образом я явился к обществу, предубежденному к жандармскому мундиру, олицетворявшему идею доносчика и несносного придиралы даже в частной жизни». Конечно, Стогов не пошел по пути своего предшественника и, как уверяет он в своих мемуарах, снискал к себе общее расположение, примиряя враждующих, уличая неправедных, словом, доставляя жандармскому мундиру то уважение, которого он заслуживал…
Даже рядовые жандармы, по словам Герцена, на собственном опыте изведавшего прелести знакомства с ними, были «цветом учтивости»: «Если бы не священная обязанность, не долг службы, они никогда бы не только не делали доносов, но и не дрались бы с форейторами и кучерами при разъездах».