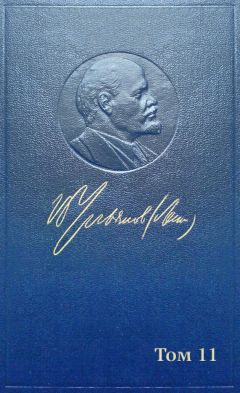— Профессор! Читай нам лекцию, читай лекцию! — галдели все.
«Профессор» моргал красными веками и пугливо смотрел на всех кроткими старческими глазами. Черты его лица и вся фигура хранили следы былого изящества.
— Ах вы, пьяная абсурдия! — прохрипел он, улыбнувшись доброй улыбкой.
Илья Николаевич молча поставил посреди комнаты стул, а на стул «профессора».
— Валяй! — сказал он ему и, обернувшись к остальным, строго рявкнул: — Молчите вы, черти! Слушать у меня, а то ребра переломаю!
Моментально все смолкло. Благородный бас лег в кресло и принял позу отдыхающего театрального короля.
«Профессор» оживился от выпитой водки и заговорил.
Он говорил простым и понятным языком о происхождении мира, о материи, о каменном периоде, о теории Дарвина и первобытном человеке, Говорил о звездных мирах, о человеческих религиях, о Будде и Христе, об истории всего человечества. Речь его не представляла из себя ничего цельного, но в ней было столько нового, и неожиданного, и странного для Захарыча, что ему казалось, будто перед ним раздвинули горизонт и показали новый, удивительный мир. Плотник весь напрягся и внимательно слушал, разиня рот. Он не знал, как отнестись к этой речи, — верить ей или смеяться над нею? Порою он вопросительно поглядывал на публику, застывшую в неподвижной группе, серьезную, внимательную.
А «профессор» строго и важно говорил им о боге, о цели и смысле жизни и о людях с пытливым умом, полным мучительного и вечного сомнения. Он говорил об их смелых мыслях и о том, как они шли против всех. Он говорил о Галилее, о Лапласе, об инквизиции и о протопопе Аввакуме. Он говорил о ненависти толпы к таким людям, о страданиях их духа и тела, о проклятиях, которым их предавали в соборах, и о кострах, на которых их сжигали.
Плотник слушал и порою тяжко вздыхал, удивленно моргая глазами. А дрожащий голос бывшего профессора звучал среди молчания:
— Дорого человек платит за свое стремление к истине!.. Только на этом пути он бескорыстен и только здесь достоин уважения!..
V
Архиерейская обедня кончилась. Кафедральный собор был полон людьми. Тысячеголовая толпа колыхалась и глухо гудела. Золоченый иконостас блестел, и на ризах «местных» икон отражались огоньки пылающих свечей. Высоко под громадным куполом тихо покачивалось на толстой цепи сверкающее паникадило.
Хор стоял на широком клиросе в голубых длинных «парадах», с закинутыми за плечи рукавами наподобие крыльев, отороченными золотым галуном, с золотыми снурками и кистями на груди. Регент, строгий и серьезный, в черном застегнутом наглухо сюртуке, имел особо торжественный вид. Захарыч стоял с краю клироса около тяжелой золотой хоругви и мрачно посматривал кругом. Он был расстроен. Томашевский почему-то не пришел, Захарыч за обедней был не в ударе и получил от регента замечание за невнимательность. У него уже несколько дней, как все звучала в ушах лекция профессора, возбуждая какие-то странные, неотвязные думы. Порою сердце Захарыча неожиданно сжималось от какой-то острой и тонкой жалости к кому-то: не то к самому себе, не то к певчим. Он вспомнил слова профессора о могучем духе сомнения, о неотвязных мучениях людей, которыми этот дух овладевал. И Захарыч стал рассеянным.
— Чего же все ждут? — тихо прогудел он Петру Иванычу, который стоял рядом. — Ведь обедня кончена?
— Будет обряд «проклятия», — отвечал тот. — Никогда не видал?
— Нет.
— Ну вот увидишь.
Архиерей, в сопровождении священников и дьяконов, вышел из алтаря на середину собора. Он стоял там на возвышении, окруженный духовенством. Драгоценные камни его золотой митры горели разноцветными искорками.
Около левого клироса устроен был высокий помост вроде кафедры, застланный красным сукном.
Народ слился в тесную толпу и замер в ожидании. Сдержанный шепот, кашель, шарканье ног по камню пола гулко плавали под куполом.
Наконец из левых дверей алтаря медленно вышел старый протодьякон в белой серебряной ризе и с седыми тяжелыми волосами, приземистый, сутуловатый и широкий. Лицо у него было огромное, с крупными и суровыми чертами, все заросшее седой бородой, с мрачным взглядом из-под косматых, седых бровей. Медленно и тяжело, словно чугунный, протодьякон с трудом поднялся по ступеням на высокий помост и положил перед собою тонкую черную книгу.
В странной тишине протодьякон запел один громадным и страшно густым басом таинственный и странный напев, от которого веяло чем-то древним. Казалось, что это пел сам неумолимый рок, судьба, выносящая печальный приговор… Что-то жестокое звучало в этой зловещей убежденности.
Волнообразный голос протодьякона, тяжелый и темный, как смола, лился черной и густой массой, печальными полутонами, начавшись с верхней ноты и постепенно спускаясь книзу.
Протодьякон остановился, провел по лицу и бороде широкой ладонью, которая вся заросла серебряными волосами, и переждал, пока утихнет эхо, встревоженное его могучим голосом. Потом он опять запел тот же напев, только тоном выше.
В этом тоне его исполинский голос стал похож на грозовую тучу с отдаленным громом, которая надвигается, охватывая небо. Этот чугунный, грохочущий голос, печальный и мрачный, был тверд и тяжел; казалось, что его можно было ощупать рукой в воздухе и что, дойдя до человека, он прижмет его к стене и раздавит.
Протодьякон опять остановился и ждал, когда утихнет эхо.
В третий раз он запел еще на тон выше, все с такими же печальными и странными полутонами. Его страшный вопрос о боге грянул теперь грозно и сокрушающей, наполнив собою весь собор. Ответом на него было только могучее, неумолкающее эхо, и, когда оно успокоилось, снова настала тишина.
Тогда протодьякон вынул золотые очки, надел их развернул черную книгу.
Кончив утверждение веры, протодьякон приступил вопросу о тех, кто уклонился от нее.
Он опять развернул книгу и начал читать речитативом, размеренно отчеканивая слова, словно прибивал их гвоздями.
«Утверждающим, что Мария дева не была девою…» — сурово и гневно неслось по собору.
Протодьякон перевел дух и грянул уже во всю силу, вдвое громче, чем до этих пор, голосом, который страшно было слушать:
— А-на-а-фе-ма-а!..
Из тысячи грудей вылетел общий испуганный вздох.
А в это время архиерей и священники запели все унисон, словно зарыдали:
— Ана-фема! Ана-фема! Ана-фема!..
Потом запел архиерейский хор, жалобно и грустно повторяя то же самое слово: «Ана-фема-а! Анафемаа!!»
А протодьякон опять загремел колыхающимся огромным голосом:
«Утверждающим, что Иисус Христос не был сыном божиим…»