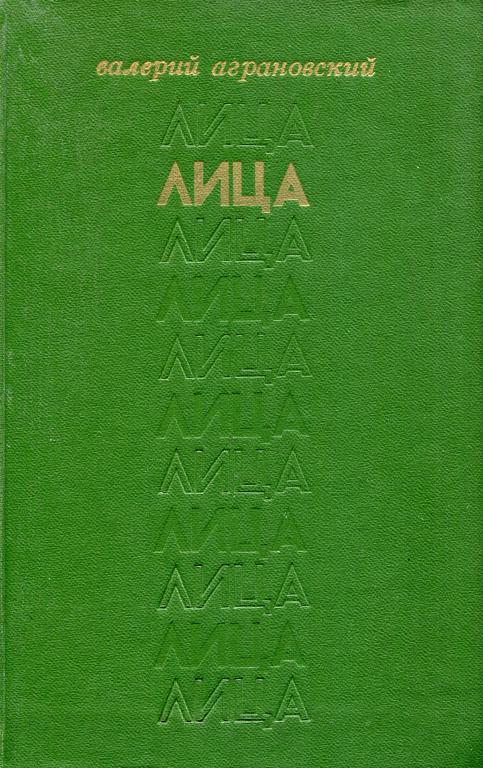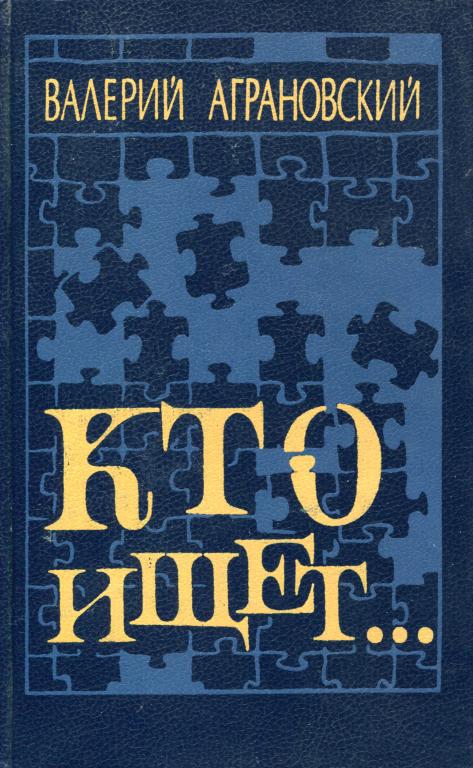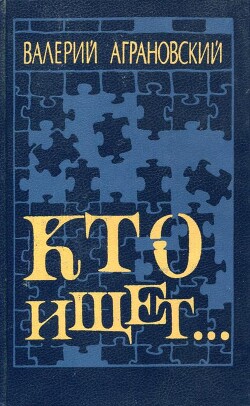ничего не говорили друг другу, но всем было ясно, что она помрет не своей смертью. Так и вышло. Два дня подряд батарея ела котлеты. Перепало и Жене-парикмахеру. Вообще-то он питался при штабе дивизиона, а на батареях его подкармливали повара. За письма. У нас Женька ел через день, потому что у Трофимыча Худого родственники жили в Сибири, а у Трофимыча Толстого — на оккупированной территории. А старшина Борзых от котлет отказался: отдал капитану Белоусову.
Я помню, как однажды Васька Зинченко где-то достал курицу. Она была синяя и очень худая. Васька договорился с одним из Трофимычей и варил ее в общем котле, привязав веревкой за ногу. Курицу съели ночью двумя орудийными расчетами. Каждому досталось по глотку.
И еще я помню, как за месяц до Нового года нам выдали сухим пайком по сорок граммов корейки. Мы решили ее не есть, сохранить до Нового года, устроить пир. Отдали на хранение Коле Васильченко. У него была металлическая коробка от довоенного кофе «Мокко». В эту коробку он на наших глазах положил четырнадцать порций. Каждая была завернута в газету, и на каждой была написана фамилия хозяина. Месяц мы о корейке не думали. Подумали — съели бы. А за два часа до Нового года собрались в одной землянке, у нас был спирт, и Коля, надев очки, открыл коробку. Мы знали, что должны быть четыре лишние порции, но едоки на них уже были, потому что незадолго перед этим пришло пополнение. Коля стал раздавать корейку, и вдруг оказалось, что порции с фамилией Черняка нет. А Черняк тогда еще был живой. Наступила тишина, мы не смотрели друг на друга. Вам этого не понять. Так и не знаю, куда делась несчастная корейка. А Батя первым отрезал от своего куска тоненькую полосочку, и каждый из нас отрезал, и все это мы положили перед Черняком. Он ничего не сказал, он даже не сказал, что мы вернули ему стакан крови. Он просто отказался от нашей корейки. «Дурак, ешь!» — сказал ему Шлягин, но дело было совсем не в этом.
Шлягин, сколько я помню, всегда ныл. А воевал он хорошо. Зло воевал. Он был счетчиком трубки и кричал: «Сто пятнадцать! Сто пятнадцать! Сто пятнадцать!» — прямо слышу сейчас его голос. От него в бою многое зависело, и он первым в расчете получил медаль. Но слишком часто он ныл. Принесут на расчет кастрюлю каши, он обязательно скажет: «Эх, одному бы столько!» И еще он говорил, что после войны откроет в деревне собственный продуктовый магазин. Как при нэпе. «А что? — говорил он. — Нельзя? А почему? Что же тогда такое коммунизьм?!» В землянке у нас был бак с водой. Васька Зинченко как-то объяснил Шлягину: «Коммунизм — это когда вот этот бак будет до краев полный водки, а я — не хочу!» Шлягин долго смеялся: «Скажет ведь, чудак, не хочу!» Однажды принесли кашу, и он опять заныл. Нам это дело здорово надоело. Тогда мы решили его проучить. «На, жри!» — и отдали четырнадцать котелков. Шлягин удобно устроился, поставил перед собой котелки в три этажа и изогнутой ложкой стал есть. А мы молча смотрели. Каша была тугая, как замазка. Съев половину, он отвалился и вздохнул. «Давай, давай!» — зло закричали ребята. Он расстегнул пояс, доел все до конца, произнес: «Нормально» — и лег на нары. «Усохнешь!» — сказал Васька Зинченко. Той же ночью Леша Гусаров стоял за Шлягина в карауле и видел, как в нашей землянке беспрерывно мелькал свет: то и дело открывалась дверь. Это Шлягин бегал в сортир, нарушая маскировку. А Батя, когда узнал про историю с кашей, назвал Шлягина подлецом. «Ну и подлец же ты, мил человек!» — сказал Батя.
В марте месяце, через неделю после того, как мы похоронили Лешку Гусарова, разрывная пуля попала Шлягину в живот. В тот день к нам приехали артисты. К нам часто приезжали из Ленинграда артисты, усталые, изможденные и голодные люди. Нам было их очень жаль. После концерта их обязательно кормили, давали первое и второе, а они приезжали со своими котелками и ложками. На этот раз были два пожилых певца, но петь они уже не могли и поэтому читали стихи. Когда им предложили пойти на кухню — до кухни было метров триста, — один из них сказал: «Так я пойду, Виталий Викентьевич? Где ваша посуда?» А второй тихо ответил: «Простите, Аркадий Михайлович, но в той части вы уже ходили, теперь моя очередь». И они пошли вместе. А в это время в землянке, на плюшевом диване, умирал Никита Шлягин. Он умирал долго и трудно. Мы сидели подле него до самого конца. Перед смертью он попросил: «Дайте сахарку пососать». Мы дали. С сахарком во рту он и умер. Сладкая получилась у него смерть. А рядом кто-то настойчиво крутил одну и ту же пластинку, и Утесов довоенным голосом пел: «В этот вечер в танце карнавала я руки твоей коснулся вдруг…»
Как ни странно, но именно с этой мелодией у меня связаны воспоминания о последних днях перед прорывом блокады. Как услышу — перед глазами землянка, разведчики из батальона морской пехоты и слепой их командир.
Мы тогда уже чувствовали, что готовится наступление, хотя толком ничего не знали. Но по тому, что прибывали и прибывали войска, и все больше морская пехота, переброшенная с Тихого океана, и по тому, что нам запретили стрелять по «рамам», даже когда они летали нахально низко, чтобы не обнаруживать наших позиций, и по тому, что моряки-разведчики каждую ночь лазали на тот берег, а капитан Белоусов отмечал по карте новые огневые точки врага, — по всему этому было ясно: скоро. А уже невмоготу становилось ждать.
Стояла очень холодная зима. Перед тем как идти в разведку, моряки грелись в нашей землянке и крутили старенький патефон с единственной пластинкой. Потом он и достался нам в наследство. Они жили какой-то особенной жизнью, непохожей на нашу. И у них были свои приметы. Один моряк попросил у меня штык. Это был очень красивый немецкий штык, похожий на кинжал, его подарил мне Васька Зинченко, и штык был мне дорог. Но я отдал его моряку, потому что он шел на тот берег, и он сказал: «Беру в долг, а долги возвращают, значит, я должен вернуться». С моим штыком он ходил на ту сторону трижды и трижды возвращался. Примета была точной.
А то, что у них слепой командир, мы даже не догадывались. Он был лейтенантом и командиром разведки с