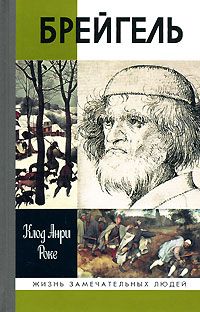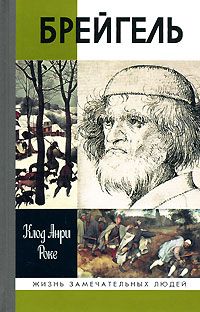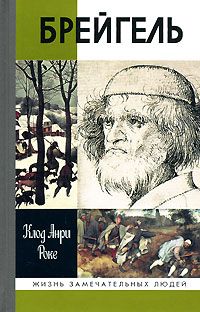На последнем рисунке — мельник, готовящийся встретить бурю: похожий на моряка на мачте, он прицепляет к крыльям «дверцы», то есть закрывает пустые ячейки каждого крыла дощечками, называемыми «дверцами ветра».9 На фоне чернеющего неба надпись: «А ты умеешь поймать ветер?» На заднем плане — лодки, спешащие к порту. Они плывут, ориентируясь на колокольню. Чайки на канале спят, спрятав голову под крыло.
«…Я расскажу тебе о море Океане, которое является великой составной частью или даже владыкой этой провинции — и не только потому, что непосредственно примыкает к ней. Я утверждаю, что лик Океана велик, бесконечен и прекрасен, но в то же время внушает ужас и несет гибель, когда бывает вздувшимся и раздраженным. Лик сей порой искажается такой яростью, такими ураганами, что целые деревни и области оказываются затопленными водой. И как раз этой провинции, расположенной рядом с Зеландией, море часто причиняло очень тяжелый ущерб. Тем не менее, благодаря учености и предприимчивости ее жителей, которые воздвигли плотины и насыпали земляные валы, против опасностей постепенно были приняты надлежащие меры, так что ежели не случается совсем уж ужасных ветров и одновременно с ними не упорствует ветер мистраль, то поверхность моря и потоки воды не становятся причиною сколько-нибудь существенных беспорядков. Говорить же о том, что разбушевавшееся море повреждает и топит корабли, было бы излишне, ибо каждый легко себе это вообразит; и все же, когда корабли находятся вдали от берега, например в Испанском море, они подвергаются гораздо меньшей опасности: ведь у них есть пространство для маневрирования, они не встречают препятствий и могут спастись — хотя ты и видишь, что они вздымаются к небу и уже в следующий миг низвергаются в бездну. Но в узких местах, как, например, по всей длине Английского канала или здесь, подобное волнение на море представляет для судов очень большую угрозу, и они часто получают серьезные повреждения, особенно с нашей стороны Па-де-Кале, вдоль всего побережья Зеландии и Голландии, потому что дно под воздействием ветров и течений, то есть приливов и отливов, меняется каждый час, там и сям на нем возникают большие горы песка, называемые банками, которые причиняют много вреда — очень часто корабли наталкиваются на них и гибнут».
До нас не дошло ни одного письма Брейгеля; вероятно, он вообще писал мало. Но, несомненно, он мог написать письмо, подобное приведенному выше посланию некоего путешественника (как знать, не пересекались ли даже их пути в Делфте, Лейдене, Роттердаме или Бохуме?), украсить его рисунком парусника на волнах и вздымающегося грозного вала и отправить кому-то из своих французских или итальянских друзей.
Глава вторая
ВОЗВРАЩЕНИЕ В АНТВЕРПЕН
1
Богатые флорентийские семьи посылали своих сыновей в Антверпен. Доцци, Портинари, Деодати, Сальвиати — эти имена, нередко всплывающие в антверпенских документах, заключают в себе краски Италии. Имя Лодовико Гвиччардини неотделимо от них. Этот молодой человек мог бы жить как флорентиец в изгнании — но выучил фламандский язык, приобретал земли, а под конец жизни даже был удостоен пенсиона. Он мог бы держаться в стороне от общественных катаклизмов — но был арестован герцогом Альбой и заключен в тюрьму. Он мог бы целиком посвятить себя банковскому делу и торговле (что, собственно, и было его профессией) — но предпочел составить «Описание всех Нидерландов». Упомянутая книга — настоящее сокровище для каждого, кто захочет представить себе эпоху Питера Брейгеля, все те вещи, которые были ему хорошо знакомы. И даже язык французского перевода (несомненно, выполненного самим Гвиччардини) помогает нам понять, как в те времена говорили. Ведь старинные письма и хроники, мемуары и дневники — это раковины, в которых до сих пор слышатся отголоски моря разговорной речи, давно канувшего в небытие.
Умение вообразить голоса и звуки, тембр, мелодию беседы и ее каденции (а это отнюдь не менее важно, чем способность увидеть в своем воображении костюмы, ткани, предметы, помещения далекой эпохи) — весьма редкий дар. Мне кажется, я могу представить себе, как выглядел Питер Брейгель, только что закончивший путешествие по Голландии, в то серебристое утро, когда готовился к возвращению в Антверпен; но как звучал его фламандский язык? «Это, — писал Гвиччардини, — язык богатейший, изобилующий вокабулами и вполне способный воспринять, передать и образовать любое изречение или слово; но им очень трудно овладеть и еще труднее освоить его произношение, так что даже дети, родившиеся в самой этой стране, становятся подростками, прежде чем научаются хорошо строить фразы и правильно выговаривать слова». Я слышу, как перекатывается в горле Брейгеля — когда он рассказывает о Риме или о том, как повстречал в горах (это было по пути в Италию) медведя с блестящей от меда мордой и тот важно проследовал своим путем, подобно тому, как здесь, сегодня, какой-нибудь собрат-художник, бог знает почему, вдруг делает вид, будто не узнал вас, и сворачивает в сторону, — я слышу, как перекатывается в его горле добрый фламандский язык, похожий одновременно на море и на сжатые хлеба под солнцем, на ветер и на просвет в грозовом небе. Я слышу этот язык, который звучал по всему миру, однако не завоевал его: язык моряков и крестьян, но также Эразма и Рёйсбрука;10 язык Меркатора;11 язык колосящихся полей и парусников, который равно хорош во дни праздников и мятежей, равно пригоден для составления освободительных хартий, для болтовни и для колыбельных песен, для выражения высокого поэтического восторга и народной мудрости.
Несомненно, при случае Брейгель мог поговорить на французском и итальянском, испанском и немецком языках, возможно, и на английском: ведь он жил в этом приморском Вавилоне, пересек Францию и добрался до Сицилии, был подданным Испании, а в лавке-мастерской «Четыре ветра» частенько встречался с приезжими из всех стран Европы. Он знал и несколько турецких слов: научился им у Питера ван Эльста, своего покровителя и приемного отца, которому довелось побывать в Константинополе. «Большинство здешних людей, — говорится в «Описании», — в той или иной мере владеют грамматикой, и почти все, вплоть до крестьян, умеют читать и писать. Более того, им настолько привычна сия наука языка, что это достойно уважения и восхищения, ибо здесь имеется почти неисчислимое множество тех, кто, хотя и не бывал никогда за пределами страны, помимо своего материнского языка может говорить на разных других, главным образом на французском, который им хорошо знаком; но многие говорят и на немецком, английском, итальянском, испанском, а другие — и на некоторых более экзотических языках». Лютер в «Застольных беседах» приводит пословицу о том, что если фламандца в наглухо завязанном мешке провезти по всей Франции и Италии, он все равно изыщет способ понимать наречия этих стран.