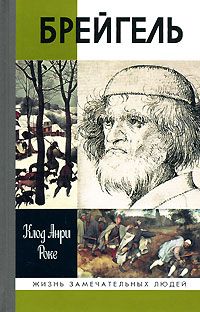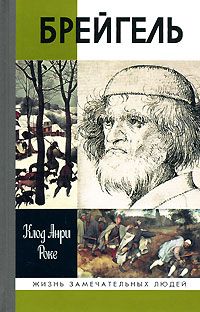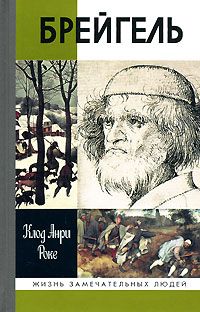Плеск воды похож на доверительные признания. Лодка движется между временами года. Каждый из нас подобен Одиссею и Ясону: мы думаем, что заплыли очень далеко, за пределы мира, но все равно рано или поздно возвращаемся на родину, вновь видим ее поля и луга, поленья, сложенные под лавкой, развешанное на веревке белье, небо, окрашенное в тона детства и меланхолии, узкую глинистую тропинку, что вьется среди кустов, — и чувствуем мучительную боль в сердце.
Думал ли Брейгель о том путешествии, которое совершил Лука Лейденский — в своей лодке, которую сам снарядил, украсил и снабдил всем необходимым для грез и работы, — когда пожелал нанести визиты живописцам Зеландии, Фландрии и Брабанта, а было это около сорока лет назад? В Мидделбурге Лука встретился с Яном Мабюзом и пригласил его, вместе со всеми художниками города, на роскошное пиршество. Мабюз сопровождал его до Гента, Мехельна, Антверпена — и в каждом из этих городов устраивался банкет! Лука Лейденский жаждал увидеть не только художников, но и их полотна и гравюры. Ян Мабюз, близко знавший императора и папу, вел себя как вельможа и носил одеяние из золотой парчи. Одежда Луки была сшита из тончайшего желтого камлота,8 сверкавшего, как чистое золото. Не возникало ли между этими двумя знаменитостями чувство соперничества? Наверное, было приятно наблюдать, как они ослепляли всех вокруг, пытаясь затмить друг друга. Была ли лодка Луки вызолочена, как гондола дожа, — от носа до кормы, вплоть до бахромы и украшений палубного тента? Хрустальные бокалы позванивали от боковой качки, вино и солнце просвечивали сквозь прозрачное стекло; даже когда лодка останавливалась у шлюзов, пиршество ни на минуту не прерывалось. А эти послы, которые представляли лишь самих себя, обменивались рецептами грунтовок и лаков, как повара обмениваются рецептами блюд.
Однако самой лучшей оказалась встреча с Альбрехтом Дюрером: тот тоже решил навестить своих собратьев из Фландрии и Голландии, и прежде всего Луку Лейденского, которым давно восхищался, как и Лука — им. Они обменялись письмами, договорились о месте свидания, еще издали узнали друг друга и ускорили шаги. Дюрер был так растроган, что в первый момент потерял дар речи. Потом сжал Луку в объятиях и, улыбнувшись, подивился, какой у того маленький рост в сравнении с величием его имени. Если мы знаем эту мелкую подробность, то, несомненно, лишь потому, что сцена происходила в присутствии посторонних, — потом они уже никого не допускали к своим беседам. Они проводили вместе долгие дни. Дюрер рисовал портрет Луки — в то самое время, как Лука рисовал портрет Дюрера. Брейгель видит в воображении их молчание, их перекрещивающиеся взгляды. Каждый смотрит на своего визави взглядом хищной птицы; рука на мгновение зависает над металлической пластиной или листом бумаги. Но они и разговаривали — например, об Италии, которую Дюрер хорошо знал, а Лука там никогда не был. Они поверяли друг другу секреты, вовсе не обязательно связанные с резцом и кислотой. Они рассказывали друг другу о своих снах и о том, что боятся смерти, хотя верят в вечную жизнь. Лука вспомнил о своей юности, о рано возникшем желании рисовать и писать маслом, о годах учения — у гравера, который украшал воинские доспехи, работая в технике офорта, а потом у ювелира; и тогда Дюрер заговорил о своем отце, который тоже был ювелиром и сыном ювелира, о том, что он и сам освоил это искусство: ведь одни и те же навыки кочуют из одной мастерской в другую — от чернения доспехов можно перейти к доспехам всадников Апокалипсиса, к гравюрам для молитвенных книг; а живописец, рассматривая игру тосканских деревянных мозаичных столешниц, с их орнаментами в виде шахматной доски, ромбов, зубчиков и раковин, извлекает для себя уроки перспективы и учится лучше компоновать в воображении россыпь кровель и сжатые хлеба на холме. Они разговаривали о перспективе и о пропорциях, о божественной музыке объемов, о комбинациях небесных светил, определяющих нашу жизнь. Они говорили о металлах, зреющих под землей, о кометах и о магах. О Венеции. О своих собратьях. К последним Дюрер относился с большей мягкостью, с большей снисходительностью, чем Лука. О посредственном гравере он почти всегда отзывался так: «Он сделал все, что было в его силах, показал все лучшее, на что способен». Он всегда находил в чужом произведении хоть что-то, заслуживающее похвалы: улавливал тот переходный момент, когда художник наконец начинал работать с удовольствием, ощущал вдохновение — некую искру, просветление, обещание свыше. И благодаря своей нерасчетливой мягкости Дюрер всегда жил в мире с художниками — людьми ранимыми и неуживчивыми.
Маленьким мальчиком, бросая камешки в воду канала или охотясь за лягушкой, Брейгель мог видеть лодку Луки и Дюрера, скользящую меж луной и солнцем. Сегодня, сидя в лодке, он предается мечтам о встрече с ними. Он придумывает, о чем бы стал с ними говорить, отталкиваясь от всех гравюр этих художников, которые знает, которыми наслаждался и на которых учился. Разве нарисовал бы он Альпы и другие пейзажные панорамы так, как сумел это сделать, без уроков Дюрера? А фигуры крестьян и апостолов — без Луки Лейденского? Эти мастера говорят с ним, даже пребывая за гранью смерти. (А с кем однажды станет говорить он сам?) Они и сейчас с ним, в этой лодке, под этим небом, которое то покрывается тучами, то проясняется (он успевает отметить и запомнить этот конкретный миг жизни), как и он ощущает себя рядом с ними, ощущает себя внимательным наблюдателем, сидящим в их лодке. Как, кстати, Лука ее назвал? Это неизвестно. Может быть, совсем просто — «Святой Лука». Брейгель видит гравера в его плавучей мастерской; взгляд мастера — на уровне берега; опускается ночь; плеск воды, мнится, складывается в слова; губы воды целуют борта лодок; опускается ночь, луна выходит из-за облаков; Лука все еще работает при свете свечи; потом засыпает, полный зрительных впечатлений, в своей раскачивающейся на волнах постели. Как это может быть, спрашивает себя Брейгель, что все другие живописцы и граверы не предпочитали, подобно Луке, работать в лодках? А я вот побывал в такой ореховой скорлупе, скользящей по водным дорогам, по дорогам дождя, и на своей сложенной чашечкой ладони рисовал карту и форму мира.
Стада овец, как хлопья, на дальних пастбищах. День, подобно тучной овце, медленно уходит прочь. Хлопья снега и пушистая шерсть. Ветер доносит звон далекого колокола. Между зимой и весной, между осенью и зимой небо бывает серебристым и часто идет снег. Солнечный свет и ветер. И все мы движемся, как эти лодки, — к конечной точке своего пути. И наши сердца подобны этой буро-ржавой завесе, сквозь которую в сумерках или на рассвете пробивается солнце, окрашивая ее в пурпурные тона. С берега кто-то нас приветствует плавным жестом руки; можно догадаться, что он улыбается; ветер доносит одно слово. Закутанные мальчишки бегут по откосу, стараясь не отстать от нашей лодки. Я вижу человека, который шагает к своему дому, к своему очагу. Он закрывает за собой дверь. Я, быть может, никогда его больше не увижу — до самого Страшного Суда. Будем ли мы вспоминать этот миг, когда солнце вдруг осветило мир, в котором ты возвращался домой, чтобы съесть свою миску супа, а я все плыл и плыл к затянутому сеткой дождя горизонту? Большие коровы, черно-белые и бурые, как скалы, как подводные рифы, поднимают морды к облакам, не переставая жевать траву, и вновь опускают их долу. Превосходные животные! Их молоко бьет ключом, сливается в молочные реки — более щедрых коров не сыскать во всей Европе. И притом они дают очень хороший приплод. Эта земля, отобранная у воды, изобилует силой и жизнью. Порой у кромки воды можно увидеть лошадь, белую, как пена или снег. Шелест ветра, шелест ветров в листьях дубрав и ивняке, в зарослях прибрежного камыша; шум воды, шум вод — протоков, по которым движется наша лодка, и той бурлящей влаги, из которой в начале времен поднялась земля. И шелест наших мыслей…