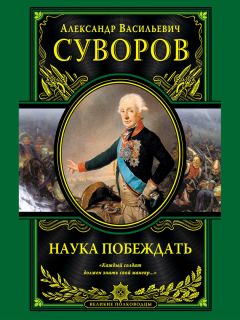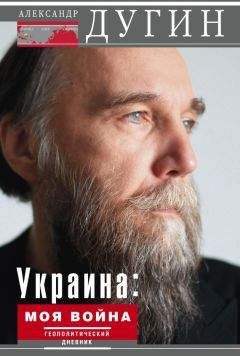Толпа все росла. Теперь каждый повторял слова, брошенные Кавериным умирающему своему приятелю Шереметеву: «Вот тебе, Васенька, и репка!» В самом деле, сегодня ты живешь, а завтра – вот тебе, Васенька, и репка! Что же наша жизнь, что наше счастье, что наши планы! Вот времена – все рушится, все меняется… Рассказывали, что Якубович, подобрав пулю, поразившую Васеньку, сказал Грибоедову: «А это – для тебя!»…
Приоткрылась дверь, и вышла она. Эта танцовщица кордебалета была мало кому известна; но теперь ее имя повторяли – Истомина. А она, ожидая карету, остановилась на крыльце.
Под взглядами лицо ее напряглось, на нем появилось выражение строгости – то выражение, которое у красивых женщин сопровождает волнение успеха… И она позировала.
Вот из-за поворота выкатила длинная и высокая фура – театральный гроб, Ноев ковчег – в которой мелкие актрисы, фигурантки из кордебалета в тесноте жали масло. Теперь ей не долго оставалось жать масло: под аплодисменты молодых людей и завистливые взгляды подруг, сидящих в карете, она сошла с крыльца.
На ней была плюшевая пелерина, обшитая мехом, и шляпка, отделанная лентами и перьями… Хотя шляпка была высокой и перья на ней высокие, все же сразу и очень точно ощутилась ее фигура – она была среднего роста, стройная, с сильными, проворными движениями…
Она не улыбалась, не оглядывалась. Но по лицу ее заметно разлился румянец самолюбия. И лихорадочные, черные, не имеющие дна, осененные густыми ресницами глаза балерины вдруг встретились с широко раскрытыми голубыми глазами Пушкина…
Карета покатила, а он еще долго смотрел ей вслед.
А потом направился к пансиону Педагогического института. Когда брат вырастет, он передаст ему, верному наперснику, свой опыт. Сам он, с тех пор как вышел из Лицея, уже много испытал и узнал… И он посоветует брату вступить в военную службу: это обеспечит ему твердое положение в обществе. Увы, его собственное намерение пока не сбылось! Конечно, гвардия – стоит денег, и даже Каверин из-за безденежья покидает гвардию… Но отец все же не сделал всего, что мог бы, и скупость отца вызывала протест и раздражение…
Легко и быстро двигался он по улицам, пересек Калинкинскую площадь с каланчой и съезжей, потом мост через Фонтанку. Вот и пансион.
Недавним лицейским прошлым дохнуло на него в уединившемся среди обширного сада особняке с нарядными колоннами и барельефами. В просторном, окрашенном в бледно-лимонный цвет вестибюле было пусто.
Но прозвенел звонок, и галдящая толпа хлынула по закругленной лестнице.
– Bonjour, mon petit[20].
И Пушкин расцеловал брата – низкорослого, курчавого двенадцатилетнего мальчика.
– Ну, как успехи?
Выражение лица у Лельки было капризным. Он хотел домой. Неужели наукам нельзя обучаться дома?
– Нельзя! – возразил старший брат. Роль наставника увлекала его. Но и в самом деле: домашнее воспитание недостаточно, разве можно дома получить понятия о равенстве, о долге, о гражданственности – дома, где со всех сторон видишь примеры холопства?
Лелька принялся болтать. Их преподаватель французского языка, господин Трике, на самом деле не преподаватель, а мелкий торговец… Их преподаватель английского языка, господин Биттон – дядьки называют его «господин мусье мистер Бидон», бывший шкипер, и, когда он ставит на колени, он кричит: «Посади на ваши колен!» – и дерется! Их преподаватель немецкого языка, господин Гек, носит рыжий парик. А подинспектор Калмаков – рябой, лысый – всегда говорит одну и ту же фразу: «А сие тем более…» Недавно в конторке у Лельки нашли стишки, за это лишили обеда и ставили на колени…
Подошли приятели Лельки – румяный, с прядкой на лбу Миша Глинка и стройный, с взрослыми чертами лица и с открытым взглядом Сережа Соболевский.
– Пойдемте к нам, мы сочинили песенку!
И ученики пансиона повели гостя наверх, в мезонин. Здесь было по-казенному однообразно, чисто, – белые покрывала на кроватях, белые салфетки на тумбочках; в углу стоял рояль Тишнера. Миша Глинка, музыкант, аккомпанировал. Песенка была о подинспек-торе Калмакове:
Подинспектор Калмаков Умножает дураков.
Мальчики кривлялись, изображая кривляния под-инспектора.
Он глазами все моргает И жилет свой поправляет…
С силой открылась дверь, и стремительно вошел длиннотелый, костлявый гувернер – сам недавний выпускник Лицея – Вильгельм Кюхельбекер.
– Мальчики, идите гулять. Spazieren, spazieren! – И, радостно пожав руку Пушкину, повлек его за занавеску, где сам жил. – Как бедна наша словесность! – заговорил он сразу же с жаром, будто с трудом дождался этого момента. – Как пусты журналы! У нас вовсе нет критики… Да, да, мы в плену у Лагарпа, в плену стеснительных французских правил. – И принялся расхаживать взад и вперед, клоня голову на тонкой шее.
Он был все такой же – кипучий, настороженный, восторженный, обидчивый. Эрудиция его была необъятной – он дни и ночи проводил за книгами. Он преподавал русский язык, латынь, немецкий, исполнял обязанности гувернера, служил в Иностранной коллегии, служил в архиве, был плодовитым поэтом и автором критических разборов…
Обсудили его статью в «Вестнике Европы», потом новое стихотворение и новую статью для «Сына отечества». Потом настала очередь Пушкина.
Пушкин прочитал строки, недавно написанные:
Узнай, Руслан: твой оскорбитель
Волшебник страшный Черномор,
Красавиц давний похититель,
Полнощных обладатель гор.
И еще:
Он звезды сводит с небосклона,
Он свистнет – задрожит луна;
Но против времени закона
Его наука не сильна.
И еще:
…Прости мне дерзостный вопрос.
Откройся: кто ты, благодатный,
Судьбы наперсник непонятный?
В пустыню кто тебя занес?
Кюхельбекер заметался по комнате; он подавал какие-то знаки – то ли умоляя продолжать, то ли умоляя замолчать, лицо его побледнело, глаза неспокойно бегали.
– Да-а, это хо-орошо, – проговорил он, растягивая слова от волнения. – Лучше всего прежнего… Но почему, почему, – закричал он неожиданно почти с бешенством, – почему со времен Ломоносова мы пишем одним ямбом!
– Ну, прости, – возразил Пушкин, – между торжественным ломоносовским ямбом и ямбом шутливой поэмы – дьявольская разница.
– Ямб вовсе чужд русскому стихосложению, – кричал Кюхельбекер. – Почему ты не пишешь русским стихом?
– Что? Стихом, которым Львов писал «Добры – ню», Карамзин – «Илью Муромца», Радищев – «Бо-ву»? Но этот стих вовсе не подходит для шутливой поэмы!
– Хорошо – шутливая поэма. Но великие задачи требуют другого. Нужна ода. Нужен могучий, звучный язык. Я читаю Ширинского-Шихматова. Вот нам образец. – И Кюхельбекер нараспев прочитал: