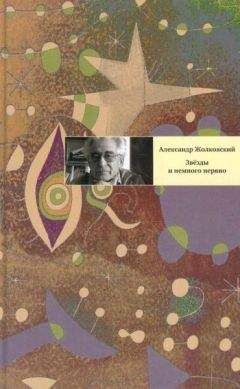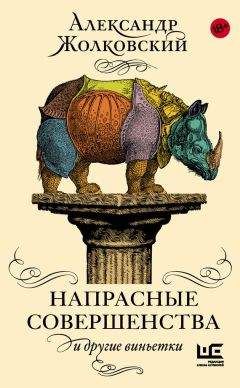Когда я слушал папин рассказ, давно занимавшая меня подозрительная аура имени композитора неотвратимо сконденсировалась в жирную каплю, запятнавшую его костюм. И не менее неотвратимо та методичность, с которой он тер, тер, тер и, наконец, стер унизительное пятно, предстала проекцией безупречных повторов и симметрий, пронизывающих этот роскошный антропоним. В нем два к , три та, сначала все четыре звука а, потом все три и, сначала все пять глухих взрывных (т-т-к-т-к) , потом три (из четырех) фрикативных и плавных ( ш-в-л ; лишь раннее р нарушает единообразие), и – музыка трехстопного ямба.
В музыкальной жизни СССР и национальных республик главные профессиональные разборки происходили на пленумах соответствующих Союзов композиторов, где прослушивались и премировались произведения, написанные за год. Борьба шла не на жизнь, а на смерть.
На одном грузинском пленуме финалистами в ведущем жанре симфонии оказались два композитора – Г. Канчели и его тогдашний соперник, фамилии которого не помню, хотя рассказавшие мне это тбилисские друзья, конечно, ее называли. Что делать – история пишется победителями.
Симфонии были вроде бы равноценные, шли ноздря в ноздрю, но у Канчели имелось тайное оружие. Оркестром дирижировал его приятель, согласившийся незаметно ему подыграть. Как? Исполнить симфонию соперника чуть медленнее.
Этого оказалось достаточно. В музыкальном поединке, как и в любом другом, все решают секунды.
«Кому интересно, тому не скучно»
Познакомленные мной, папа и Юра прониклись взаимной симпатией – до какой-то степени через мою голову и как бы вопреки мне.
Папа услышал о Юре, когда я вернулся с предварительного собрания своей будущей университетской группы (август 1954 года). Я описал участников и рассказал, что на вопрос классной «агитаторши», как кто готовился к началу занятий, один студент, Юра Щеглов, ответил слегка расслабленным голосом, что «перечитал поэтов – Тютчева, Фета…». Всего полтора года спустя после смерти Сталина открытое признание в интересе к подобным авторам было поступком необычным, можно даже сказать, смелым, с налетом диссидентства, и ориентируясь на это и на иронически переданную мной Юрину домашне-мечтательную и уж совершенно не комсомольскую интонацию, папа, в тон мне повторив: «…Тютчева, Фета…», сказал, что Юра Щеглов, наверно, очень умный мальчик и мне следует с ним подружиться.
Так что нашей пожизненной связью мы отчасти обязаны папе.
Юра папу тоже оценил, и прежде всего как эталон Профессора. Когда для публикации первой научной работы ему потребовался отзыв, он обратился к папе. Статья шла в только что основанную серию структурно-типологических исследований Института славяноведения, и в соответствии с ренессансным духом эпохи отзыв мог быть и не от узкого специалиста. Папе статья понравилась, и он охотно написал положительный отзыв, но – с оглядкой на собственный литературоведческий непрофессионализм – аттестовал статью как «во многом блестящую».
Юные остряки, мы тут же подхватили эту аптекарскую формулу, стыдя и смеша папу, и она навсегда вошла в наш иронический словарь. Папа не ударил лицом в грязь и припомнил установочное высказывание завкафедрой марксизма-ленинизма Института военных дирижеров о неудовлетворительности констатации им, професором Мазелем, приоритета русской музыкальной науки в ряде вопросов:
– Приоритет в ряде вопросов – не приоритет. Приоритет есть приоритет.
К папе Юра относился с подчеркнутым почтением, меня же любил прорабатывать, в частности за «неинтеллигентность». Какую-то роль в этом играл мой реальный облик, какую-то – общее Юрино недоверие к окружающим, но не последнюю, мне хочется думать, – очевидные риторические выгоды образа неинтеллигентного отпрыска профессорской семьи.
Папа тоже был непрочь прибегнуть в спорах со мной к Юриной поддержке. Он любил сочинять поздравительные стишки, с не всегда удачными претензиями на блеск, вообще-то – в разговорах и устных новеллах – ему присущий. Когда я пренебрежительно отозвался об очередном таком опусе, папа апеллировал к Юре. Юра стихи одобрил.
– Да? А вот Аля считает, что они никуда не годятся. Как же так?
– Ну что ж, Лев Абрамович, нельзя отрицать, что стихи… м-м… так сказать… м-м… в традиционном стиле…
Эта формулировка была встречена общим смехом и в дальнейшем всеми троими взята на вооружение.
Сходную дипломатичность Юра продемонстрировал уже в 90-е годы, когда начальственный коллега спросил о впечатлении от его малооригинального доклада. Я навострил уши.
– Должен сказать, – с готовностью откликнулся Юра, – что согласен буквально с каждым вашим словом.
Кстати, оказавшись в связи с этой конференцией в Москве, Юра зашел повидаться с папой и принес черновик статьи, которую намеревался ему посвятить, на что испрашивал разрешения. Папа прочел, согласие дал, но о статье отозвался сдержанно. Юра был разочарован и попросил меня уточнить папины впечатления, в частности, спросить, не скучна ли статья, и обратить внимание на сходство с его собственными работами.
Папа ответил, что сходство он заметил и оно было ему скорее неприятно. Что же касается скучности, то… нет, наверно, тому, кому это интересно, тому не скучно. Юра огорчился, но оценил горькую профессиональную мудрость обоих соображений.
«Что, ты не знаешь моего характера?»
Однажды в эвакуации, в Свердловске, когда мне было лет пять, папа должен был срочно уйти и оставить меня одного. Я не отпускал его, боясь грифона – четырехлапой нитяной фигурки, сплетенной в подарок ему кем-то из учениц. Страх держался на легендах, сочиненных, чтобы предохранить сувенир от моих посягательств. Не отменяя действия мифологем, папа тут же объяснил, как мне, в свою очередь, защититься от грифона – магической формулой: «Мы никого не боимся! Мы не боимся зверей!». Уже из-за двери он услышал, как я дрожащим голосом начал выводить: «Мы-ы-ы… нико-во-о… не бои-и-мся-а-а…». А вернувшись часа через два, застал меня лихо кувыркающимся на кровати и дерзко скандирущим: «Мы! никого! не боимся! Мы! не боимся!! зверей!!!»
Это был лишь один из преподанных им уроков сопротивления ужасам силами искусства. В те же годы у меня страшно нарывал палец (средний ноготь на правой руке так и остался утолщенным); папа ночами сидел со мной, импровизируя бесконечную стихотворную сагу с вариациями на актуальные темы. Помню строчки: Орел высоко в небо поднялся. / Вдруг видит: там висит большая колбаса. «Колбасами» назывались аэростаты воздушного заграждения, и их игрушечная съедобность была тоже призвана на помощь.