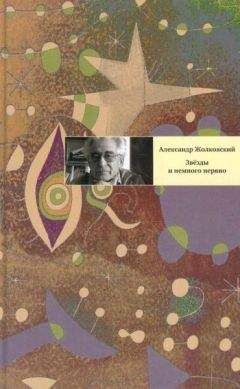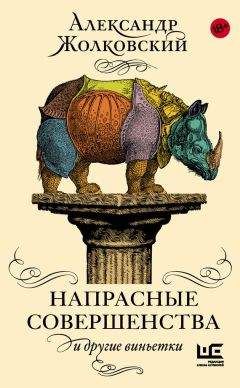Каково же было мое потрясение, когда со сцены в зал понеслись оглушающие в своей гортанной немоте придыхательные шипы! Театральная дикция, тем более в классическом репертуаре, сохраняет архаическое произношение. Особенно уместными эти придыхания казались в устах Федры, на все лады – в соответствии со своей трагической коллизией и с принципиальной бедностью и, значит, повторяемостью расиновского словаря – склонявшей «ненависть».
Заглянул во французский текст «Федры». Существительное haine и глагол haïr встречаются 23 раза: 7 раз в I действии, 10 – во II, 1 – в III, 3 – в IV, 2 – в V. Их употребляют все основные персонажи, чаще других – сама Федра (9 раз), причем четырежды в одном монологе и дважды в одной строке; на втором месте Ипполит (4 раза). Помимо haine/haïr, с h аspiré начинается слово honte, «стыд», тоже одно из актуальных и потому частых в «Федре».
Впоследствии, занявшись сомали, я сначала узнал из книг, а затем и услышал вживе в речи носителей, сколь богат может быть спектр заднеязычных, увулярных, гортанных и ларингальных согласных – от нулевых и еле слышных до взрывчато хрипящих; в конце концов, я даже научился кое-как произносить («противопоставлять») их. Но свистящее, как кнут, h аspiré навсегда связалось у меня с Мари Белль.
Когда я поступил в Университет (1954), слово «оттепель» было уже произнесено и постепенно одевалось плотью. На романо-германском отделении это чувствовалось. Деканом был Р. М. Самарин, старавшийся прикрыть свою печальную антисемитскую известность образца 1949 года нарочито свойскими манерами, как бы из Боккаччо (он читал нам литературу Возрождения). Проходя по коридору третьего этажа, толстый, плешивый, с трубкой в зубах, он мог собственными руками раскидать дерущихся первокурсников, чтобы бросить через плечо патерналистское: «Школяры!..».
Однажды в этом коридоре, около вешалки, мне выпало стать удивленным свидетелем его разговора на равных со студентом необычного вида. Щуплый, белокурый, бледный, в толстых очках, сильно увеличивавших его маленькие глазки с нездоровыми веками, он был импозантно одет – пиджак, жилет, галстук – и явно наслаждался спором. Речь шла о неком Дольберге, аргументы с обеих сторон не иссякали, и тогда Самарин, по-гаерски закрыв дискуссию чисто силовым: «Что и требовалось доказать, Бочкарев!», победно удалился.
Оказалось, что о Дольберге на факультете знали многие, но говорили не вслух, а заговорщическим полушепотом. Александр (Алик) Дольберг, студент романо-германского отделения, поехал в Англию с одной из первых туристических групп, сбежал и стал невозвращенцем, а вскоре и сотрудником русской службы Би-би-си. ( Есть такой обычай на Руси – вечерами слушать Би-би-си, гласила интеллигентская мудрость.) Скандальной славе Дольберга способствовала фонетическая перекличка фамилий с почитаемым комментатором той же станции А. М. Гольдбергом, которого в кругах московских пикейных жилетов принято было панибратски-конспиративно называть по имени отчеству («Да? А вот Анатолий Максимович полагает, что Голда Меир…»).
Дальнейшие детали о побеге моего тезки я узнал не от кого иного как Бочкарева. Познакомились мы в ходе факультетской постановки – на языке – нескольких сцен из «Пигмалиона». Бернард Шоу был борцом за мир, другом Советского Союза и потому дозволенным автором. Труппа состояла из старшекурсников во главе с Володей Бочкаревым, и они пригласили меня на роль профессора Хиггинса. (Выбирать им особенно не приходилось – лиц мужского пола, приличного роста, говорящих по-английски, на филфаке было раз, два и обчелся.) Когда дошло до генеральной репетиции, мы поехали в какую-то театральную мастерскую, и нам выдали реквизит – костюмы, платья, шляпы; я получил темно-коричневый шлафрок со шнурочками и продолговатыми деревянными пуговицами.
Лидерство Бочкарева объяснялось просто. Будучи сыном советского дипломата, выросшим в Лондоне и Нью-Йорке, и прирожденным полиглотом, он виртуозно владел английским – литературным, разговорным, бруклинским, техасским, королевским, кокни, you name it. Сначала я его побаивался, но Володя оказался застенчивым, ранимым юношей, покушавшимся на самоубийство, и охотно проводил со мной – смотревшим ему в рот новобранцем – массу времени. Он привел меня в букинистический магазин иностранной книги на Никитской и мог бесконечно ходить по городу, рассказывая о Нью-Йорке, неведомых американских авторах (от него я впервые услышал имя Микки Спиллейна) и факультетских знаменитостях.
Он знал не только Дольберга, но и его отца, отставного кагэбэшника. (Возможно, отцовские связи и помогли Дольбергу с выездом в капстрану.) Шум по поводу побега еще не улегся, как отец стал звонить в Институт мировой литературы, в сектор, где Алик подрабатывал каталогизацией англоязычных изданий.
– Говохит стахший Дольбехг. Мой сын недополучил у вас деньги…
Взявшая трубку сотрудница в ужасе залепетала, что ничего сказать не может и позовет заведующую. Но и та растерялась:
– Вы знаете… я не знаю… понимаете… дело щекотливое…
– Чего там щекотливэ, – у менья довьехенность есть…
По словам Володи, деньги были дополучены.
Наша постановка имела успех. Играл я, полагаю, так себе, но, натасканный Пигмалионом-Бочкаревым, сумел по-британски озвучить знаменитую реплику Хиггинса в той сцене, где оскорбленная вопросом о шлепанцах Элайза, утратив свежеприобретенный лоск, выпаливает неграмотное them slippers, а Хиггинс поправляет ее: those slippers.
Элайзу играла студентка на курс старше меня. В ее русской речи слышались какие-то странные обертоны, и я гадал, не это ли определило Володин выбор. В дальнейшем она стала сотрудницей американского сектора ИМЛИ, и мы неожиданно встретились десятилетия спустя, когда в составе советской делегации она приехала в исследовательский центр в Северной Каролине, где я был на стипендии.
Тот театральный опыт остался в моей жизни уникальным. Вспоминается он часто – при попытках изобразить британский акцент, при очередном вхождении, после долгих каникул, в амплуа профессора и чуть ли не на каждом докладе, отягченном неизбывным русским акцентом, – особенно с тех пор, как, выходя с престижного лосанджелесского семинара, участники которого, исключительно выходцы из России, изъяснялись изо всех сил по-английски, мой приятель сказал, что больше всего это напоминало спектакль на языке в советском педвузе.
Володя Бочкарев был одним из предтеч сладостной новой эпохи, когда язык стал худо-бедно доводить до Киева, но, как водится у предтеч, войти в нее ему не было суждено. После спектакля я потерял его из виду, а вскоре узнал, что он покончил самоубийством.