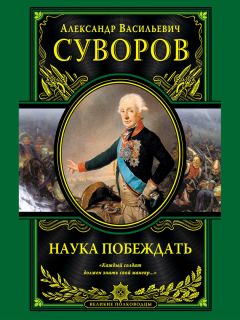Не дождавшись ответа, бросился я его обнимать; искренность взаимных чувств наших нас тотчас сблизила, и теперь оба мы перестали жить в Венеции. Граф тут с удовольствием вспомнил, как в молодых летах, быв отправлен в Берлин курьером, встретил он также в Пруссии русского солдата. «Братски, с искренним патриотизмом, – говорил он, – расцеловал я его; расстояние состояния между нами исчезло. Я прижал к груди земляка. Если бы Сулла и Марий встретились нечаянно на Алеутских островах, соперничество между ними пресеклось бы; патриций обнял бы плебеянина, и Рим не увидел бы кровавой реки».
* * *
Когда фельдмаршал, по взятии австрийским генералом Кеймом Турина, возносил его хвалами и пил за его здоровье, один его земляк, из знатнейшей древнейшей фамилии, сказал: «Знаете ли, что Кейм из самого низкого состояния и из простых солдат дослужился до генерала?» «Да, – отвечал Александр Васильевич, – его не осеняет огромное родословное древо; но я почел бы себе особенною великою честию иметь его после сего подвига своим, по крайней мере, хотя кузином».
* * *
Непонятно, как человек, привыкший по утрам окачиваться холодною водою, выпарившись в бане, бросаться в реку или в снег, не носивший никогда шубы, кроме мундира, куртки и изодранной родительской шинели, – мог в горнице переносить ужасную теплоту. В этом походил князь Александр Васильевич на наших крестьян в избах. Подобно им, любил и он быть в полном неглиже. Я, а со мною и многие, страдали в его теплице. Нередко пот с меня так и катился на бумагу при докладах. Однажды закапал я донесение, хотя по содержанию своему не очень ему приятное. «Вот, Ваше сиятельство, я не виноват, – сказал я ему, – а ваша Этна», указав на печь. «Ничего, ничего, – отвечал он. – В Петербурге скажут или что ты до поту лица работаешь, или что я окропил сию бумагу слезою. Ты потлив, а я слезлив». Так же и австрийский генерал-квартирмейстер Цах распалился до того, что, работая с ним в кабинете, снял с себя галстух и мундир. Фельдмаршал бросился его целовать с сими словами: «Люблю, кто со мною обходится без фасонов». «Помилуйте, – вскрикнул тот, – здесь можно сгореть». Ответ: «Что делать? Ремесло наше такое, чтоб быть всегда близ огня; а потому я и здесь от него не отвыкаю».
* * *
Государыня императрица Екатерина, узнав, что Суворов ездит и ходит в ужасные трескучие морозы в одном мундире, изволила, для сбережения его здоровья, подарить ему пребогатую черную соболью шубу. Он принял сей дар Монаршего благопризрения с должным благоговением; возил с собою в карете, держа со всякою бережливостью на коленах; но никогда не дерзал возлагать на грешное свое тело, как он отзывался о себе по христианскому смирению.
* * *
При вступлении войск наших в Варшаву дан был приказ: «У генерала Н. Н. взять позлащенную его карету, в которой въедет Суворов в город. Хозяину сидеть насупротив, смотреть вправо и молчать, ибо Суворов будет в размышлении». (Надобно знать, что хозяин кареты слыл говоруном).
* * *
Некто вздумал назвать Суворова поэтом. «Нет! Извини, – возразил он, – поэзия – вдохновение; а я складываю только вирши».
* * *
Говорили об одном военачальнике, которого бездействие походило на трусость. Граф тут сказал: «Нет, он храбр; но бережет себя, хочет дожить до моих лет».
* * *
Генерал-квартирмейстер Цах, говоря о Карле XII, назвал его Донкишотом. «Правда, – сказал граф, – но мы, любезный Цах, донкишотствуем все (mir alle donquischotienen), и над нашими глупостями, горебогатырством, платоническою любовью, сражениями с ветряными мельницами также бы смеялись, если бы у нас были Сервантесы. Я, читая сию книгу, смеялся от души; но пожалел о бедняжке, когда фантасмагория кукольной его комедии начала потухать пред распаленным его воображением, и он наконец покаялся, хотя и с горестию, что был дурак. Это болезнь старости, и я чувствую ее приближение». Цах при сем случае рассказал анекдот, что когда у знаменитейшего ученостию медика Сиденгама, при кончине его, просил другой доктор совета, какою книгою ему при лечении руководствоваться, ответствовал он: «Читайте Донкишота».
* * *
Из всех отраслей военного искусства преимущественно любил князь Александр Васильевич инженерную науку. Посему Великая Екатерина и поручила ему построение и поправление крепостей в Финляндии. Вобана знал он почти наизусть, и вот причина, как он говорил: «Покойный батюшка перевел его, по высочайшему повелению государя императора Петра Великого, с французского на российский язык, и при ежедневном чтении и сравнении с оригиналом сего перевода изволил сам меня руководствовать к познанию сей для военного человека столь нужной и полезной науки». Книга сия сделалась теперь очень редкою; я видел ее в рукописи; заглавие ее:
ПРЯМОЙ СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ ГОРОДОВ,изданный от славного инженера Вобана, на французском языке.Переведен на российский язык 1724 г.
Переводчик, говоря в предисловии о важности и пользе сей книги, заключает следующими словами: «Сих убо ради вин Петр Великий, Император и Отец Отечества, егда восприя сию книгу, на французском языке изданную, многополезную и другим несравненную, возымел намерение, да сея пользы российский свет не лишен будет, повеле из французского языка на российский преложити, яже и преложена есть Василием Суворовым».
* * *
Нежность в обращении генералиссимуса с пленными генералами была примерная. Возвращая генерала Серрюрье, нынешнего маршала Франции, из плена в Париж, наговорил он ему множество вежливостей. Тот, описывая в журналах свое с генералиссимусом в Милане свидание, отзывался об нем с восторгом. Узнав также, что генерал Лекурб был женат, вручил он ему при отпуске его из плена на Альпийских горах цветок, прося его поднесть оный, от имени его, супруге своей. Цветок давно увял; но чувство благодарности за таковое внимание в благородном сердце не стареет и не истлевает. Лекурб показывал в 1813 году оный, как нечто священное, генерал-майору Ф. Ф. Шуберту, бывшему при армии нашей во Франции полковником по квартирмейстерской части.
* * *
Странности, особенности или так называемые причуды делали князя загадкою, которая не разрешена еще и поныне. Беспрестанно спрашивали и спрашивают меня: зачем наложил он на себя такую личину? И ответ мой был тот, какой и теперь: не знаю. Всегда поражало, изумляло меня, как человек наедине умнейший, ученейший, лишь только за порог из своего кабинета, показывается шутом, проказником или, если смею сказать, каким-то прокаженным. Он играл с людьми комедию и на сцене резвился, а зрители рукоплескали. Однажды, вышед из терпения, отважился я спросить его, что все это значит? «Ничего, – отвечал он, – это моя манера. Слышал ли ты о славном комике Карлене: он на Парижском театре играл арлекина, как будто рожден арлекином; а за кулисами и в частной жизни был пресерьезный и строгих правил человек: ну, словом, Катон!» И, чтобы пресечь разговор, приказал мне идти с поручениями к генералу от кавалерии Вилиму Христофоровичу Дерфельдену.