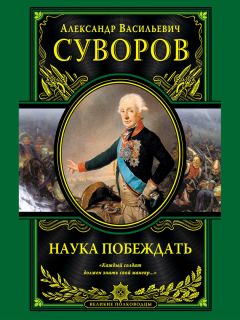В Варшаве поутру явилось к победителю многочисленное собрание. Одна знатная, польская, редкой красоты дама, отлично уважаемая, стояла в толпе. Он тотчас бросился к ней с сим восклицанием: «Что вижу я? о чудо из чудес! На прекраснейшем небе два солнца!» Протянул два пальца к ее глазам, и ну ее целовать. После сего, на парадах, на балах, везде казалась она ему и возносила его. Александр Васильевич доказал сим, что он знал дамское сердце и знал, кому сделать такое приветствие.
* * *
Дюк де Полиньяк приходит в Варшаве к Суворову и велит тотчас о себе доложить. Занятый делами, фельдмаршал, желая дать ему почувствовать такую нетерпеливость, не выходит более часа из своего кабинета. Вдруг выбегает с криком, нагнувшись, придерживая свой живот: «О проклятая колика! Она с час задержала вас. Как мне это больно». И начал с ним разговаривать при многочисленном собрании. В продолжение разговоров Полиньяк плюнул в платок. Тут отскочил от него граф; начал кричать, харкать, плевать на пол. Прошка тотчас подал чистый платок Дюку, а заплеванный взял в мытье. Подполковник Тищенко окуривал его кадильницею с ладаном со всех сторон. Равнодушная при сей церемонии неподвижность Полинияка столько понравилась графу, что они после сблизились.
* * *
Подымаясь на Сен-Готард с последним напряжением сил, увидели мы вдруг возвышающееся на ледовитой, снежной вершине ужасной горы сей здание. Сердце у каждого из нас встрепенулось от радости. Мы как будто увидели предел нашему, уже истощевывающемуся, утомлению. Здесь тот капуцинский монастырь, где иноки, посвятившие себя Богу, дают убежище странникам, отыскивают в пропастях, с помощью чутья приученных своих собак, замерзших, отогревают и оттаивают тела их и нередко возвращают им жизнь. Мы были встречены настоятелем и братиею сей, толикими Богоугодными делами освященной обители, в церковном их облачении. Настоятель, семидесятилетний маститый старец, украшенный сединами и длинною бородою, с огненными блестящими очами и благоговение вдыхающим челом, приглашал престарелого, изнемогшего нашего вождя в келью для отдохновения. «Нет! Святой отец, – воскликнул он, – я и все сии мои дети, подвизающиеся за алтарь Господень, томимся голодом; но веди нас во Храм, да воспоем хвалу Спасшему нас! а потом уже в трапезу».
Молебствие началось; и кто из нас не пролил с отцом нашим, преклонившим колена, чистых слез благоговейного глубочайшего благодарения Тому Неисповедимому, Которого десница вознесла нас из пропастей на сей верх столба – небесного, лучезарного балдахина Своего. В трапезе блюда с картофелем и горохом и какая-то рыба пресытили нас лучше всех пряностей обеих Индий. И какое зрелище!.. Два старца, Суворов и приор, сблизились сердцами, как будто бы они вместе состарились и поседели, беспрестанно друг друга обнимали. Кроткий священнослужитель разговаривал с ним то по-немецки, то по-французски и по-итальянски. Вдруг пришла Александру Васильевичу мысль заставить меня говорить по-латыни. Кое-как, жалким слогом на сем мертвом языке проговорил я несколько слов; а чтобы скрыть свои недостатки, вздумал отыграться стихом из Энеиды, казавшимся мне приличным нашему положению. Память мне не изменила – вот он:
Per varios casus, per tot discrimina rerum Tendimus in Latium, sedes ubi fata quietas ostendunt.
Мы сквозь грозу толиких напастей тропу пробиваем в Лациум, где нам судьбы покойную жизнь указуют.
Где я остановился, там ученый муж начал продолжать несколько стихов и показал, что он юность свою, более нежели я мою, согревал под пиитическим, ярким солнцем Вергилия. В продолжение разных разговоров рассказывал приор, что по летописям монастырским, русские почти полтора столетия назад посетили Сен-Готард. «Итак, – отвечал граф, – мы ступали по следам давно в Бозе усопших прадедов наших. Не осталось ли здесь из них умершего; мы бы воспели ему вечную память». «Нет», – отвечал приор. К концу обеда начал Александр Васильевич возносить похвалами человеколюбивые подвиги сих монашествующих и сожалеть, что они беспрестанно подвергаются несчетным трудностям и опасностям. «Не жалейте о нас, благодетельный герой, – прервал речь его приор. – Нередко стакан воды жаждущему, кусок хлеба голодному, утешительное слово горюющему, несколько капель лекарства больному приобретали нам доверенность и любовь спасенного, и делали нас его благодетелями.
А с чем сравнится душевная радость, какую мы ощущаем, когда видим мало-помалу оттаивающего, оживающего замерзшего. Тогда все трудности, все опасности забыты. Мы повергаемся пред Престолом Творца, сподобившего нас быть орудием Своей благости – воскрешать. Тогда и эти самые обнаженные скалы, и бурные стихии, и вся мертвеющая здесь природа являются нам бесстрашными, прелестными». Тут, с излиянием сердечных чувств, воскрикнул Суворов: «Нет, вы истинно великие Христианские Герои, не щадящие живота для спасения страждущего человечества. Вашему сердобольному благопризрению вверяю я своих братьев, погибших в ваших пропастях. Вы, вознесясь над земным, близки и душою вашею, и обителью к небесам. Бог да хранит вас!» Войско, отдохнув, укрепив себя пищею, низверглось с молитвою в новые зияющие пучины.
* * *
Князь Александр Васильевич не мог увидеть бедного или нищего, чтобы не сделать ему подаяния. А так как у него никогда не было при себе денег, и счетов своим приходам и расходам он во всю жизнь не читал, то весьма часто занимал у предстоявших. Однажды, в продолжение обеда, вошел нечаянно в горницу девяностолетний нищий, приходивший ежедневно к хозяйке дома за подаянием. Увидя многочисленное собрание, он испугался и хотел было уйти. Но князь вскочил сам, усадил его и угащивал. Тотчас занял несколько червонцев, велел сделать складчину. Русские щедры – старец со слезами признательности удалился. Тут с чувствительностью произнес он: «Добрые друзья мои! Кто теперь благополучнее, сей ли старец, получивший от нас дары, или мы, подкрепившие болезненную его дряхлость? Тогда только, когда человек простирает на помощь ближнему руку, уподобляется он Творцу. Дивлюсь, – продолжал он, – везде благотворные заведения, а нищета не уменьшается». Но когда у него в другой раз просил милостыни здоровый, то он велел купить ему топор, сказав: «Руби дрова: не умрешь с голоду».
* * *
При вступлении войск наших в Италию итальянцы не выходили никогда из домов своих без кинжалов, спрятанных под плащами, и тотчас при малейшем оскорблении закалывали на улицах. Фельдмаршал прекратил зло сие немедленно, определив строжайшее наказание тому, у кого найдено будет какое-либо смертоносное орудие. «Меч, – сказал он, – обнажается со славою только на защиту отечества; в руке убийцы или дуэлиста он – позорное орудие трусости».