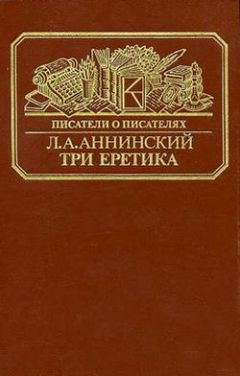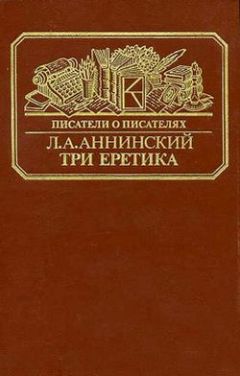Прервем цитату. В принципе Достоевский прав, но его определение легко распространяется на художественную речь вообще; в конце концов, и его собственные герои говорят эссенциями, только не «бытовыми», а философскими: в реальности два провинциальных дворянина, сидя в трактире где–нибудь в Скотопригоньевске, ни за что не смогут вести диалог Ивана и Алеши Карамазовых. Чем сильнее писатель, тем сильнее эссенция, даже если она создает полную иллюзию реальности; это все–таки иллюзия, потому что механически точно воспроизведенная эмпирика есть просто мертвый протокол. Эссенция — закон художества и закон духовности, вопрос только в предмете и смысле сгущения. А вот этого–то и нет в рассуждении Достоевского: нет определения того, что именно вызывает к жизни лесковскую сгущенность. Попробуем хотя бы почувствовать, за что Достоевский ее отвергает:
«…И большею частию работа вывескная,[25] малярная… Правда, есть оттенки и между „художниками–записывателями“; один все–таки другого талантливее, а потому употребляет словечки с оглядкой, сообразно с эпохой, с местом (выделено мною. — Л. А.), с развитием лица и соблюдая пропорцию. Но эссенциозности все–таки избежать не может… Чувство меры уже совсем исчезает…»
Опять–таки чутье — поразительное: как подмечена несоразмерность, безмерность лесковской образности! Четверть века спустя Н.Михайловский разовьет это вскользь брошенное замечание Достоевского в целую концепцию лесковского творчества… Оно действительно причудливо, странно и несообразно — с точки зрения той культурной эпохи, внутри которой ощущает себя Достоевский. Условно можно назвать эту эпоху послепетровской. Лесков действительно «из другой эпохи». Достоевский все чувствует. Но он недочет вдумываться в духовную реальность, которая вызвала к жизни лесковские эссенции, потому что эта реальность от него далека, — Достоевский просто отвергает ее с порога.
Размышляя сегодня о тех человеческих ценностях, которые отстаивают оба классика, мы чувствуем скорее их глубинное единство, чем разность, скорее общий в наших глазах духовный и нравственный пафос, чем частные расхождения: на расстоянии в сто лет эти расхождения и впрямь могут показаться нам несущественными. Достоевского, конечно же, должен раздражать тот трезвый практицизм, за которым Лесков хитро прячет «праведность» своих героев, — Достоевский не может не отвергать такое лукавство в сфере духовного строительства, где сам–то Достоевский как раз предельно серьезен. Однако серьезность, с какой Достоевский уповает на преображение всей глобально понятой реальности в некоем теократическом государстве будущего, на спасения, которое чудесным образом придет со стороны «Власов», кающихся и некающихся, со стороны народа, пребывающего в грехе («не Петербург же разрешит окончательную судьбу русскую», — написано за месяц до «Смятенного вида»), — эта вера Лескову, с его конкретной трезвостью в глобальных вопросах, должна казаться непрактичной и утопичной, а если брать поправки на полемический пыл и злобу дня, — то хуже того: обскурантской и дилетантской разом. Лесков не верит ни в церковь, ни в чудеса — Достоевский не верит, что такое неверие может сочетаться с праведностью: лесковские праведники вырастают из подпочвы, ему неведомой. Общего языка нет, хотя оба писателя решают одну задачу: оба пытаются применить нравственный абсолют к человеческим ценностям и человеческие ценности к реальной жизни. Фигурально говоря, оба строят один замок, но тот — с воздуха, а этот — с земли. Из небесной бездны земная глубь на различается; связи почти нет; возникает не связь, а аннигиляция…
Последним абзацем своей статьи Достоевский небрежно разделывается с газетой, давшей его оппоненту слово:
«А при чем же тут сам „Русский мир“? Решительно не знаю. Ничего и никогда не имел с „Русским миром“ и не предполагал иметь. Бог знает, с чего вскочут люди».
Лесков не ответил.
Чтобы закончить историю взаимоотношений двух великих писателей: год спустя, весной 1874–го, Лесков ловит наконец своего противника на неточности: на неудачном выражении «светская беспоповщина», и в «Дневнике Меркула Праотцева» (идущем опять–таки без подписи) заметил: «Это с ним хроническое: всякий раз, когда он (Достоевский. — Л.А.) заговорит о чем–нибудь, касающемся религии, он непременно всегда выскажется так, что за него только остается молиться: „Отче, отпусти ему!“» На сей раз не ответил Достоевский. О чувствах его по отношению к Лескову в ту пору говорит эпиграмма (каламбур в ней связан с тем, что Лесков отошел от изображения духовенства и начал печатать «Захудалый род» — семейную хронику князей Протозановых). Достоевский набрасывает на полях рукописи «Подростка»: «Описывать все сплошь одних попов, по–моему, и скучно и не в моде; теперь ты пишешь в захудалом роде; не провались, Л–в».
В печати — ни слова.
Через три года Лесков, прочитав статью Достоевского о толстовской «Анне Карениной», тотчас же, ночью, в страшном волнении пишет ему несколько восторженных строк.
Достоевский не отвечает.
Еще четыре года спустя Лесков идет за гробом Достоевского, а по Петербургу литераторы передают сплетни, будто именно он, Лесков, — автор «злонастроенного» анонимного некролога в «Петербургской газете». Лесков пишет Суворину возмущенное опровержение…
Еще через два года Лесков обнаруживает в только что изданном посмертном томе писем Достоевского его замечание двенадцатилетней давности: фигура Ванскок в романе «На ножах» — гениальна: «ничего и никогда у Гоголя не было типичнее и вернее».
Лесков горько жалуется одному из корреспондентов: «Достоевский… говорит… о какой–то моей „гениальности“, а печатно и он лукавил и старался затенять меня».
Это написано в 1884 году. Года за полтора до этого письма Лесков в финале «Печерских антиков» отвечает на главную мысль своего противника: на рассуждение Достоевского о величии России, о цене этого величия и о простом народе, который пьян с утра до вечера.
Этот иронический автокомментарий к «Запечатленному ангелу» широко известен и часто цитируется. Процитируем его и мы, только учтем сразу, как надо его читать. Включенный в «Печерские антики», в это собрание киевских курьезов и предании, фрагмент стилистически подан как «анекдот» — вне лукавой и коварной интонации не понять мысли, что в нем заложена.
«Когда в „Русском вестнике“ М.Н.Каткова был напечатан мой рассказ „Запечатленный ангел“, — начинает Лесков, — то в некоторых периодических изданиях, при снисходительных похвалах моему маленькому литературному произведению, было сказано, что — в „нем передано событие, случившееся при постройке киевского моста“… разумеется, старого — сразу уточняет Лесков. — В рассказе идет дело об иконе, которую чиновники „запечатлели“ и отобрали в монастырь, а староверы, которым та икона принадлежала, подменили ее копиею во время служения пасхальной заутрени. Для этого один из староверов прошел с одного берега на другой при бурном ледоходе по цепям (выделено везде Лесковым. — Л.А.).