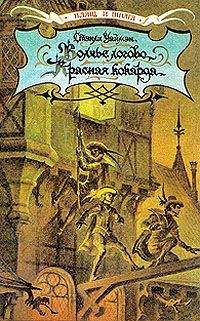— Я так благодарен вам!
— Я знаю. Не надо только об этом говорить.
— Какой удивительный священник! Он слепой?
— Да. Он очень стар. И эти монахини тоже удивительны! Многие уехали кто куда, а эти вот остались. И что их ждет?..
— Но они не хотят уезжать?
— Нет! Они настоящие христианки, как в древности, — знаете?
— Представьте, я думал об этом. Когда я оказался в этой часовне, я подумал, что таинственная сила перенесла меня на полтора тысячелетия назад, в древний Рим. Мы еще вернемся в церковь?
— Нет, уже будет поздно.
VI
По хребту Басаргина девушка и стареющий мужчина идут к батарее. Та же шоссированная военная крепостная дорога, но, приближаясь к морю, она снижается и вновь погружает путников в туман, и всё ближе слышится звон сигнального колокола на оконечности мыса; так же, как и раньше, воет сирена.
Но теперь ни туман, ни сирена, ни похоронный голос колокола уже не гнетут душу Воронца: одиночества нет — он среди своих! Да разве уж так страшна смерть, если над тобой пронеслось пасхальное чудо с этими величайшими из когда-либо сказанных слов: воистину воскрес!
Да и нет ее вовсе, смерти, как нет косматой Бабы-Яги, которой пугают только детей.
— Далеко еще? — спрашивает Николай Павлович у своей спутницы больше для того, чтобы начать разговор.
— Скоро придем, — отвечает та. — Разве вы недавно во Владивостоке?
— О, давно!..
— И не знаете его окрестностей?
— А зачем их знать?
— Ну, мало ли! Здесь очень красиво летом… Море видно далеко, до самого горизонта.
— Я, знаете, бухгалтер.
— Бухгалтер? Гроссбухи, счеты, счета… Я этого не понимаю.
— А что вы понимаете?
— Ну, многое! Я умею плавать, стрелять из револьвера…
— А зачем это девушке?
— Что, плавать?
— Нет, стрелять…
Спутница смеется. Потом спрашивает:
— Как вас зовут?
— Николай Павлович. А вас?
— Леля. Вы знаете что?.. Вы похожи на моего папу. Только он был ветеринаром.
Николаю Павловичу и хорошо, и весело, и немного обидно: разве уж такой он старик? Но все-таки славно, что рядом с ним идет эта девушка… с глазами такими спокойными, уверенными.
— Вот мы и пришли! — говорит она.
Дорога поднимается на холм, которым оканчивается мыс. Ниже — обрывистый каменный спуск к морю, и именно там, внизу, из молочно-белого марева тумана и бьет, бьет сигнальный колокол, предупреждающий мореходцев.
— Пришли?
— Да.
Еще несколько сотен шагов, и черными силуэтами в тумане, всё же уже редеющем, начинают вырисовываться бетонные строения покинутой береговой батареи. Три тяжелых каменных куба казематов с бетонными же «продухами», прикрывающими их входы. Какая-то каменная круглая вышка перед ними и огромные пушки в пролетах между казематами. Пушки подняли вверх свои дула; эти старые Крупповские орудия никогда уже не будут больше стрелять…
— Сюда, сюда… За мной!
Девушка уносится вперед по утрамбованной площадке батареи. Она бежит к «продуху» одного из казематов — дальнего. И на бегу кричит:
— Вася, Вася, это мы!.. Христос воскресе!..
— Воистину! — откуда-то из глубины, будто из-под земли, отвечает знакомый Николаю Павловичу голос, и из-за «продуха» показывает Василий Петрович Громов — Васька Студент, как его называют контрабандисты. Он поднимает руки, потягиваясь и зевая.
— Пришли? — говорит он. — Ну и слава Богу! Похристосуемся, Леличка.
И они троекратно целуются.
— Здравствуйте, Николай Павлович…
— Здравствуйте, Василий Петрович. Христос воскресе!..
— Воистину! А я, знаете, только полчаса тому назад проснулся. Пойдемте в мою хату — сейчас чай будет готов. Попьем да и вниз. Как раз к рассвету поспеем на берег.
Из-под бетонного продуха тянет легким дымком. В каземате, огромном и совершенно пустом, валяется на бетонном полу какая-то верхняя одежда — ночное ложе Васьки. Поодаль, меж двух кирпичей горит маленький костерок, наполняющий каземат горьковатым дымком. На кирпичах — чайник.
Совсем иною стала Леля теперь. В движениях ее — быстрота, блестят глаза, новые ноты в голосе — воркующие, зовущие. Она нагибается над костром, дует на пламя и всё же через каждые две-три минуты успевает кинуть на Громова ласковый, преданный взгляд.
— Я тебе принесла кое-что разговеться, Вася…
— Спасибо. Да плохо, Лелюша, говел я в этом году!
Из своего маленького узелка девушка достает хлеб, кусок мяса, два крашеных яйца и неполную полбутылку с водкой. А в это время чайник уже начинает булькать.
— Глотнем по кружке чаю, — говорит Николаю Павловичу Громов, — по единой выпьем и — вниз! Спуск тяжелый будет, по острым камням. Как раз к рассвету поспеем.
VII
Перед рассветом подул ветерок и, как перчатку с руки, стал стягивать с сопок замшевую пелену тумана. Туман уходил на север, а восток стал разгораться алыми и золотыми огнями.
Измученный тяжелым спуском, Николай Павлович обессиленно лежал на прибрежных, отшлифованных волнами камнях. Ему было невесело.
Как он уже стар, как физически опустился! До чего легко, совсем по-козьи, прыгали с камня на камень, спускаясь с откоса, Василий и Леля. А он почти полз, да и не «почти», а по-настоящему полз, иногда падая, становясь на четвереньки.
— Николай Павлович, не надо грустить! — ласково говорит Леля. — Устали, измучились?..
— Нет, не то, Леля… О другом я думаю: стоит ли искать новой жизни?.. Уже половина жизни позади…
— Стоит, стоит! — кричит девушка, и ее глаза ласкают Громова.
И тот, отвечая ей взглядом, говорит спутнику:
— Ничего, Николай Павлович… Это пройдет, это нервы. К вечеру мы вон где будем — за Посьетом!
А слева, недалеко от утихшего теперь маяка, показывается парус. В лучах рассвета он розов и похож на драгоценный щит какого-то таинственного морского гиганта. И парус всё ближе, ближе…
— Наши корейцы! — вскрикивает Леля.
— Еще наши ли? Подожди радоваться! — и Громов из-под ладони смотрит на приближающуюся шаланду.
Минута, две ожидания, и он уверенно говорит:
— Да, это наши!
И действительно, немного не дойдя до высоты мыса, шаланда круто поворачивает в заливчик перед ним, и ее розовый парус падает. На палубе, что-то делая, суетятся несколько человек. Шаланда, не становясь на якорь, качается на волнах. От ее кормы отчаливает лодка.
— Николай Павлович, сейчас едем! — говорит Громов. — Леля, прощай на месяц. В последний раз покидаю тебя, честное слово…