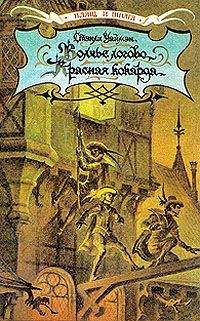— Который раз ты мне это говоришь…
— Слово даю! Еще один рейс — и мы будем богаты, и я увезу тебя.
Василий обнимает девушку; она прижалась к его груди, обессиленная, страдающая.
Николай Павлович жадно смотрит на ее лицо; он видит, как по ее щеке катятся крупные слезы, и они в лучах рассвета кажутся розовыми. Как томно и безвольно раскрываются ее губы, ищущие губ молодого человека. Как это всё трогательно и красиво! Да, красиво, но… Ведь его, Николая Павловича, ни одна женщина не целовала так…
«И это потому, — думает он горько, — что я всю жизнь чего-нибудь боялся. А этот ничего не боится…»
Лодка подошла к берегу.
— До свидания, Леля! Ну-ну, ты сегодня совсем не такая, как всегда! Попрощайся же с Николаем Павловичем…
Леля целует Воронца, и тот ощущает на своих губах соленый вкус ее слез. И еще он надолго запоминает удивительную мягкость ее губ.
Лодка уходит к шаланде; Леля стоит на берегу и машет вслед рукой.
Потом в сторону Русского острова уходит и шаланда, а девушка всё стоит на берегу. Затем она начинает подниматься вверх по откосу, но иногда останавливается, чтобы махнуть еще раз в сторону удаляющегося паруса.
Еще несколько минут — и она слилась с фоном каменного мыса.
Громов лег навзничь на мешки с чем-то твердым и глядит в небо.
— О чем вы думаете? — спрашивает его Воронец.
— Ни о чем, — равнодушно отвечает он. — Плохо выспался на камне в каземате. Скоро засну. А что?
— Вы читали «Тамань» Лермонтова?
— Какую «Тамань»?
— Рассказ, эпизод из «Героя нашего времени»… О контрабандистах.
— В гимназии, наверно, читал. Не помню. Я плохо учился по словесности. Я любил физику и химию. Любил с машинами возиться… — И он закрывает глаза.
VIII
Несколько лет спустя, уже в Харбине, Воронцу попался в руки номер владивостокской газеты «Красное Знамя». В нем он нашел заметку о приговоре, вынесенном судом некоему Громову, обвинявшемуся в бандитизме: к высшей мере без права апелляции.
Инициалов в заметке указано не было…
«Тот это Громов или нет? — подумал Воронец. — Если тот, так, стало быть, он не сдержал обещания, не увез Лелю. Видно, правду говорят, что такая жизнь, какую он вел, затягивает. Жаль, если и девушка погибла!..»
Но в те дни Воронец был уже совсем стар и мучим болезнями. И ему было не до других людей и уж совсем не до женщин. И он довольно равнодушно подумал: «Что ж, каждому свое: они хоть и мало пожили, но ярко, и как свечи сгорели, а я вот шестой десяток неизвестно для чего копчу небо!»
И ему вспомнился соленый вкус слез Лели на его губах.
УДАЧНЫЙ ЗАГОЛОВОК. Отрывок из романа[38]
I
Вот-вот умрет, из последних сил отыскал Савостий точку среди расплывающихся, ставших зыбкими знаков клавиатуры ундервуда, ударил по точке жирным, на сосиску похожим указательным пальцем и со вздохом облегчения — написал-таки передовую! — откинулся на спинку кресла. И сейчас же заснул, утомленный сполна бессонной вчерашней разгульной ночью.
Чьи-то осторожные ловкие руки сейчас же выкрутили исписанный листик из-под валика и унесли в наборную.
Савостий спал. Огромное тело обвисло, словно из него выну ли половину костей, расползлось, как тесто из разбитой квашни: голова свесилась на грудь; на лбу выступили капельки пота, хотя час был ранний, прохладный, и в открытое окно залета! свежий ветерок с моря, шевеливший газетами на редакционных столах.
Савостий спал, и снился ему приятный сон… Будто снова ему девятнадцать лет, и сидит он в той, столь памятной ему темноватой аудитории университета в Гейдельберге, где провел он так много незабываемых часов, сидит в рядах молодых немцев, таких же студентов, как и он сам, и слушает профессора Виндельбанда. Профессор стоит на кафедре и рассказывает о Платоне: и лицо у него милое, ничуть не постаревшее, и так приятно Савостию слушать мягко звучащую, совсем почти позабытую немецкую речь.
Но еще приятнее то, что Савостий знает, что философ Виндельбанд сейчас кончит говорить о Платоне, протянет к нему. Савостию, руку и скажет во всеуслышание:
— А вот этот русский молодой человек… — да-да, тот самый, что так скромно опускает глаза, — чрезвычайно одарен, и если не случится войны между Россией и Германией, то он, получив у нас диплом магистра и продолжая самостоятельно работать, сумеет создать столь же стройную философскую систему, как в свое время создал Платон…
И у Савостия захватывает дух от предвкушения этой похвалы, от этой веры в его, Савостия, одаренность. И видит он, как лица всех студентов начинают медленно, ужасно медленно — даже страшно! — поворачиваться в его сторону, ибо и студенты знают уже, что должен сейчас сказать их уважаемый учитель.
Но самое сладкое и самое мучительное не в этом… Ведь тут же, влево от Савостия, оказывается, сидит и сам греческий мудрец Платон, и череп у него лыс и гол, как абажур электрической лампы на редакционном столе, только не зеленый он, а желтоватый, как старая слоновая кость. И Платон тоже знает, о чем скажет Виндельбанд, и уже поглядывает на Савостия и ободряюще улыбается. И от этой улыбки мудреца так хорошо становится на сердце Савостия, что он ваг-ваг расплачется слезами радости и благодарности, и тревожит его только одно: когда профессор Виндельбанд назовет его имя, то как должен он встать и поклониться Платону… то есть именно не поклониться, а как-то иначе, по-древнегречески, выразить ему свое почтение… Но как это делали эллины, Савостий и не может вспомнить… Вытянуть руку вперед и плавным движением опустить ее вниз? Нет, так приветствовали друг друга римляне… Так как же? Ведь Платон может обидеться, назвать его варваром, неучем, и тогда пропадет всё, что предрекает Савосгию Виндельбанд…
А тот опять повторяет:
— Да, русский юноша Савостий станет великим философом, если Россия воздержится от войны с Германией!..
«Почему он называет меня Савостием? — удивляется спящий. — Каким образом в Гейдельберге стала известна кличка, которую пришпилил мне этот подлый фельетонист Кок? Ведь и Кок в то время меня еще не знал!..»
Но критическая мысль снова растворяется в сновидении, и Савостий вдруг видит, как из-за спины Виндельбанда неожиданно вырастает страшно знакомая сутулая фигура в папахе и в офицерском походном снаряжении поверх суконной гимнастерки. Это, конечно, ротный командир Савостия еще по германскому фронту — не кто иной, как штабс-капитан Иволгин. И Иволгин из-за спины Виндельбанда показывает Платону фигу.