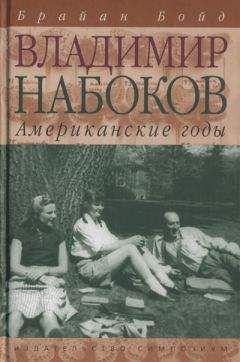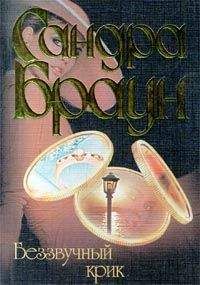Невозможно втиснуть в единственное английское слово всю ту информацию, какой Набоков нередко располагает в отношении того или иного пушкинского слова, и ожидать затем, что английский читатель сообразит, что, к примеру, «scrab» был выбран не потому, что его русским двойником является диалектизм, полученный из «grab», но потому что в исходном слове соединяются русские глаголы, соответствующие английским «snatch» и «scratch». Усердие Набокова по части столь масштабного поиска столь верных слов было бы достойным подражания, но лишь при том условии, что он в каждом случае объяснял бы в отдельном прозаическом примечании, почему ему пришлось зайти в своих поисках так далеко.
Набоков поставил себе цель воспроизвести Пушкина с точностью, которая позволила бы ему соединить все обертоны значений — и тайные отзвуки, и основную мелодию. Защищая столь абсолютную точность, он порою умышленно становится провокатором. В какой-то момент он переводит пушкинское слово «обезьяна» не буквальным «monkey», a «sapajou» (скорее, «капуцин»). Эдмунд Уилсон набросился на это слово. Набоков, самоуверенно посмеиваясь, ответил:
Он дивится тому, что я передаю «достойно старых обезьян» как «worthy of old sapajous», вместо «worthy of old monkeys». Действительно, «обезьяна» означает любой вид «monkey», но бывает так, что и «monkey» («обезьяна»), и «аре» («обезьяна») недостаточно хороши в контексте.
«Sapajou» (которое формально применимо к двум видам нетропических обезьян) во французском имеет разговорное значение «негодяй», «греховодник», «нелепый малый». Здесь, в строках 1–2 и 9–11 главы 4:VII («Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей… но эта важная забава достойна старых обезьян хваленых дедовских времян»), Пушкин повторяет нравоучительный пассаж из собственного письма к младшему брату, написанного по-французски и посланного в Москву из Кишинева осенью 1822 г., за семь месяцев до начала работы над «Евгением Онегиным» и за два года до того, как он приступил к четвертой главе поэмы. Пассаж этот, хорошо известный читателям Пушкина, звучит так: «Moins on aime une femme et plus on est sûr de l'avoir… mais cette jouissance est digne d'un vieux sapajou du dixhuitiéme siècle»[121]. Я не только не смог устоять перед соблазном передать «обезьян» оригинала англо-французским «sapajou» письма, но я также заглянул вперед, ожидая, что кто-нибудь набросится на меня и позволит ответить этой порождающей столь чудесное чувство удовлетворения ссылкой28.
Было бы куда лучше, если бы Набоков оставил в качестве перевода для «обезьян» слово «monkey», а подтекст, касающийся «sapajou», ввел бы в толкование (в исправленном издании он действительно добавил это истолкование к своему комментарию, но перевод оставил прежним). Возможно, «sapajous» — это именно то, что имел в виду Пушкин, однако «обезьяны» — это то, что он написал, и то, что должен был услышать читатель пушкинских времен (который, в конце концов, еще не успел тогда прочесть собрание писем поэта), прежде чем воспринять — если бы это вообще произошло — обертоны. Быть более точным, чем Пушкин, означает для Набокова стать менее чем дословным.
В другом месте желание Набокова зафиксировать в переводе галльские оттенки вместе с исходной русской мелодией наносит урон его буквализму, обращая простое русское слово в английского уродца. Слово «нега» («pure comfort», переходящее в «sweet bliss»), любимое русскими романтическими поэтами, короткое и легко рифмующееся, он неоднократно переводит архаическим «mollitude». К слову «нега» Набоков приводит тончайшие описания амплитуды его значений и отмечает также, что, используя это слово, «Пушкин и его плеяда пытались передать французские поэтические клише „paresse voluptueuse“, „mollesse“, „molles délices“ и т. д.; певцы английской Аркадии называли это „soft delights“»29. Полезное наблюдение, однако, если во времена Пушкина русские, встречая слово «нега», воспринимали его как вполне уместное в контексте и если Пушкин не стремился напомнить своим читателям французского «mollesse», зачем тогда Набокову передавать это обычное русское слово архаичным и крайне темным «mollitude»? Он снова пытается втиснуть истолкование в одно-единственное слово перевода. Снова, как и в случае с «sapajou», выбор Набокова, похоже, отражает его воинственный настрой: он хочет встряхнуть читателя, привыкшего к переводам изящным и гладким, он настаивает на том, что его перевод не предназначен для самостоятельного существования в качестве независимого от оригинала английского текста, — но представляет собой лишь цепочку символов, созданную для того, чтобы привлечь читателя к Пушкину, заставить его сделать усилие, необходимое для понимания всех тонкостей «Евгения Онегина».
Куда больше, чем лексические курьезы вроде «mollitude», слух читателя коробят гораздо более частые искажения английского порядка слов. В исправленном варианте перевода встречаются, например, такие ужасы (Глава 8:XXVIII):
Of a constricting rank
the ways how fast she has adopted!
…
And he her heart had agitated!
About him in the gloom of night,
as long as Morpheus had not flown down,
time was, she virginally brooded.
(Как утеснительного сана
Приемы скоро приняла!
…
И он ей сердце волновал!
Об нем она во мраке ночи,
Пока Морфей не прилетит,
Бывало, девственно грустит.)
Когда из-под пера великого стилиста выходит столь нескладный английский текст, совершенно очевидно, что он предпочел здесь неуклюжесть ради неуклюжести. Как Набоков писал в 1957 году Эдмунду Уилсону, он приветствует «неуклюжий оборот, рыбью кость тощей правды»30. Он намеренно переводил Пушкина скорее с русского, нежели на английский. На то были свои причины.
Набоков предпринял свой перевод в первую очередь потому, что просто не мог преподавать «Евгения Онегина», располагая лишь имеющимися в его распоряжении рифмованными переложениями. На протяжении долгих лет работы, по мере того как его замысел разрастался до неузнаваемости, он оставался верен своим изначальным намерениям. Во вступительном слове к опубликованному переводу он написал: «Пушкин сравнивал переводчиков с лошадьми, которых меняют на почтовых станциях цивилизации. И если мой труд студенты смогут использовать хотя бы в качестве пони[122], это будет мне величайшей наградой»31. Что они и делают. В университетских библиотеках англоязычного мира первый томик из четырех — собственно перевод — не только давным-давно утратил суперобложку, но и лишился корешка, и обзавелся новым, матерчатая обшивка его истрепалась по краям, а твердый переплет замусолился и обмяк от частого использования. В тексте, который Набоков приготовил в 1962 году для обложки книги, он написал, что «хотя рядовой читатель (если таковой существует), решившийся просмотреть этот труд, лишь приветствуется, сам труд с надеждой предназначен на потребу университетских преподавателей»32. Один из таких преподавателей, Елена Левин, решительно заявляет: «…без этого преподавать „Евгения Онегина“ невозможно».