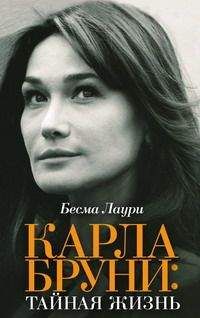утихает дурак,
Тихо падает на пол из рук
сумасшедший колпак.
«Вечный зов»
Сравним со строками из открывающего книгу «Золото в лазури» стихотворения «Бальмонту»:
Поэт, ты не понят людьми.
В глазах не сияет беспечность.
Глаза к небесам подними:
С тобой бирюзовая Вечность.
И еще одна цитата из знаменитого сборника:
Стоял я дураком
в венце своем огнистом,
в хитоне золотом,
скрепленном аметистом…
«Жертва вечерняя» [556]
Андрей Белый, автор романа «Петербург», питерской фантасмагории, автор книги «Мастерство Гоголя», над которой он работал в последний период жизни (опубликована уже после его смерти, в апреле 1934 года), был несомненным продолжателем гоголевской традиции в русской литературе. «Гоголек» – так называл Андрея Белого Вячеслав Иванов. Белый воспринимался как своего рода новое воплощение Гоголя; отсюда – строки Мандельштама в одном из вариантов «реквиема»:
Откуда привезли? Кого? Который умер?
Где…? Мне что-то невдомек…
Здесь, говорят, какой-то Гоголь умер?
Не Гоголь. Так себе. Писатель. Гоголек.
(Часть текста во втором стихе после слова «Где…» не сохранилась. – Л.В.)
(Эти стихи, несомненно, перекликаются с воспоминаниями о московских похоронах Гоголя. Гроб несли от университетской церкви до кладбища Данилова монастыря. За гробом шло множество людей разных званий, процессию сопровождал жандармский эскорт; зеваки и прохожие спрашивали: «Кого хоронят?» Думали, что хоронят генерала или какую-нибудь другую важную персону; не верили, что столько людей идет за гробом писателя, «сочинителя».)
«Печаль моя жирна» сводит воедино пушкинское «печаль моя светла» и слова из «Слова о полку Игореве»: «печяль жирна тече средь земли рускыи». «Гравировальщиком» в мандельштамовских стихах назван известный художник В.А. Фаворский, рисовавший умершего поэта в гробу. Рисовали и другие художники («налетели на мертвого жирные карандаши»).
Смерть, ее загадка и торжество – Мандельштам думал об этом. Смерть художника – это как бы его последнее произведение, финальный аккорд. Об этом Мандельштам писал еще в статье «Скрябин и христианство», дошедшей до нас в отрывках. «Мне кажется, смерть художника не следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее, заключительное звено», – утверждает Мандельштам. «Часто пишется – казнь, а читается правильно – песнь». Андрей Белый не был казнен, но в конце жизни тяжелые переживания доставило ему уничижительное и высокомерное предисловие Л.Б. Каменева к его мемуарам «Начало века» (книга вышла в ноябре 1933 года). Речь в предисловии идет о том, что Белый главного в описываемой им эпохе не понимал и понять не мог, а творчество писателей его круга – это свидетельство разложения буржуазного общества в сфере культуры. Уже во второй фразе своего предисловия Каменев говорит о том, что Белый провел годы перед революцией 1905 года «на самых затхлых задворках истории, культуры и литературы». Слово «задворки» повторяется в предисловии Каменева неоднократно. Круг литераторов, к которому принадлежал в начале XX века Андрей Белый, характеризуется как «галерея умственных импотентов, выставка идейных инвалидов, всяческих убогих и уродов». Отсюда, видимо, – мандельштамовские строки в одном из вариантов:
Из горячего черепа льется и льется лазурь
И тревожит она литератора-Каина хмурь.
(Не лишен интереса в этой связи такой факт: согласно уже цитировавшемуся выше тексту разговора на заседании комиссии по «чистке» парторганизации ГИХЛа 23 октября 1933 года, Каменев собирался написать предисловие к избранным произведениям Мандельштама, которые издательство собиралось опубликовать, но отказался от выполнения этой задачи: «Л.Б. Каменев взялся, три раза перечитал и ничего не понял» [557] .)
Каменев в своем предисловии подчеркивает, что в «Начале века» Андрей Белый неоднократно, говоря о своих идейных исканиях, использует такие выражения, как «запутался», «перепутался», «путаница» и т. п.; это, по мнению Каменева, свидетельствует о несостоятельности «идейного багажа» мемуариста. Нам представляется, что мандельштамовская характеристика – «прямизна речей, / Запутанных, как честные зигзаги» – имеет явно полемическую направленность, нацелена против плоских выводов Каменева.
И опять здесь обнаруживается явное подобие: ведь в том же 1933-м на Мандельштама обрушились две резко отрицательные рецензии (Н. Оружейникова в «Литературной газете» и С. Розенталя в «Правде») в связи с публикацией «Путешествия в Армению». А в строке о казни, которая является одновременно триумфом, победным завершающим аккордом, Мандельштам говорит, вне всякого сомнения, и о своем вероятном и близком будущем. Антисталинские стихи уже были написаны, и поэт был готов к аресту.
Вскоре после кончины Андрея Белого у Мандельштама в Нащокинском переулке был П.Н. Зайцев, и поэт передал ему рукопись стихотворения «Утро 10 января 1934 года». Как вполне убедительно показала М. Спивак, передача рукописи была связана с устройством вечера памяти Андрея Белого, который пытался организовать П. Зайцев (вечер не состоялся). Предполагалось, что на этом вечере Мандельштам прочтет свои стихи, и текст стихотворения, очевидно, требовался «для составления программы и ее утверждения в ГИХЛе» [558] . Зайцев приходил к Мандельштаму минимум дважды: 22 января и, как доказывает М. Спивак, в дни с 16 по 18 января 1934 года. Опубликованные в статье Спивак до недавнего времени неизвестные материалы из частного архива позволяют говорить о еще одном важном обстоятельстве, связанном с написанием «реквиема» Андрею Белому.
Из мемуарной записи П.Н. Зайцева:
«– Зайдите ко мне! Ведь мы живем в Нащекинском [559] , в писательском доме.
Я зашел к нему, у него в тот вечер был Гуковский [560] , литературовед, и сын поэта Н.С. Гумилева. Но я тогда был очень не в себе, он прочитал мне свои стихи о Борисе Николаевиче и с большим чувством сказал: – Запомните, П.Н., я, Мандельштам, еврей, первый написал стихи о Борисе Ник. в эти дни… – и он протянул мне рукопись, приготовленную для меня, автограф. Мы обнялись, крепко, крепко – и – расцеловались по-братски, заливаясь слезами. Многим были вызваны наши слезы… Мы расстались и больше уже не видались» [561] .
Зачем это подчеркивание своего еврейства? Дело, очевидно, в том, что в писаниях Андрея Белого многократно встречаются пассажи антисемитской направленности. Не исключено – по крайней мере, возможно, что Мандельштам мог уловить нечто в этом духе и в личном общении с Белым, когда они оказались соседями по столику в столовой коктебельского Дома творчества. Но это не помешало Мандельштаму написать «реквием»: все отступало перед личностью великого художника, и поэт воспел и оплакал ушедшего собрата.