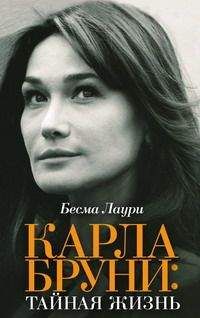Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то – четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.
И дугами парусных гонок
Зеленые формы чертя,
Играет пространство спросонок —
Не знавшее люльки дитя.
Ноябрь 1933; июнь 1935
Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то – четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.
И так хорошо мне и тяжко,
Когда приближается миг,
И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих.
Ноябрь 1933
Из хаоса звуков рождается их гармоническое плетение-ткань, бормотанье превращается в значимый непреложный текст, вДрУГ появляется ДУГовая растяжка, парус напрягается ветром, безличный покой сменяется движением, возникают «зеленые», новорожденные формы. Эти стихи напоминают о том месте в «Разговоре о Данте», где Мандельштам пишет об искусстве управления парусами: «Давайте вспомним, что Дант Алигьери жил во времена расцвета парусного мореплаванья и высокого парусного искусства. Давайте не погнушаемся иметь в виду, что он созерцал образцы парусного лавированья и маневрированья. Дант глубоко чтил искусство современного ему мореплаванья. Он был учеником этого наиболее уклончивого и пластического спорта, известного человеку [562] с древнейших времен».
Когда, уничтожив набросок,
Ты держишь прилежно в уме
Период без тягостных сносок,
Единый во внутренней тьме,
И он лишь на собственной тяге,
Зажмурившись, держится сам,
Он также отнесся к бумаге,
Как купол к пустым небесам.
Ноябрь 1933
Еще один образ возникающей гармонии, динамического напряжения: купол, появляющийся на фоне пустого неба.
Преодолев затверженность природы,
Голуботвердый глаз проник в ее закон:
В земной коре юродствуют породы
И, как руда, из грýди рвется стон.
И тянется глухой недоразвиток
Как бы дорогой, согнутою в рог, —
Понять пространства внутренний избыток,
И лепестка, и купола залог.
Январь 1934
Существуют разные интерпретации последнего стихотворения, вплоть до понимания его как описания женских родов (Н.Н. Мазур). И для такого понимания есть основания (хотя, с нашей точки зрения, это только одна из возможных интерпретаций, не единственная): ведь речь идет о рождении формы из бесформенности, существа из косного вещества – причем это вещество ждет и жаждет оформления: в нем уже содержится «и лепестка, и купола залог».
Определение «голуботвердый» мы встречаем также в цитированных выше и создававшихся в эти же январские дни стихах памяти Андрея Белого. И это, очевидно, неслучайно: образы и представления, возникшие в связи с кончиной поэта-мыслителя гётеанского склада, сочетавшего в одном лице художника и, как говорили в старину, «испытателя природы», могли «выплеснуться» за пределы стихов, посвященных непосредственно Андрею Белому, и отозваться в «Восьмистишиях». В этом плане очень интересно наблюдение М. Спивак, обратившей внимание на то, что в той же «гихловской» машинописи, хранящейся в РГАЛИ, где представлено «10 января 1934 года», на следующих страницах содержатся четыре мандельштамовских стихотворения под заглавием «Воспоминания»: «Люблю появление ткани…», «О, бабочка, о, мусульманка…», «Когда, уничтожив набросок…» и «Скажи мне, чертежник пустыни…». Вполне логично предположить, делает вывод М. Спивак, что эти стихи Мандельштам предполагал читать вкупе с «10 января 1934 года» на вечере памяти Андрея Белого. «А это, – продолжает М. Спивак, – в свою очередь, означает, что связь восьмистиший-воспоминаний со стихами о Белом может оказаться гораздо более серьезной, чем предполагалось ранее. Кстати, о том, что в феврале 1934 года Мандельштам “прибавил к восьмистишиям 8 строчек, отделившихся от стихов Белому”, писала Н.Я. Мандельштам, имея в виду восьмистишие № 5 “Преодолев затверженность природы…”». «Возможно, – предполагает М. Спивак, – в заглавии “Воспоминания” содержится отсылка к тем разговорам, которые происходили у Белого и Мандельштама в Коктебеле летом 1933 г.» [563] .
Еще в мае 1932 года (тогда же, когда «Ламарк») было написано восьмистишие, имеющее несомненную связь со стихами о французском биологе. Речь в нем идет об эволюционном потенциале, о возможностях дальнейшего эволюционного развития, не всегда, однако, реализованных и реализующихся. Какие-то потенциальные возможности остались не использованными в низших формах жизни. Человеку тоже не гарантирован дальнейший «подъем». Развитие не происходит автоматически и мерно, оно требует творческого «скачка» – креативного ответа на эволюционный вызов, на понуждающий «запрос» среды. «Недостижимое» – «близко», но переход к нему не является запрограммированным, решенным заранее.
Шестого чувства крошечный придаток
Иль ящерицы теменной глазок,
Монастыри улиток и створчаток,
Мерцающих ресничек говорок.
Недостижимое, как это близко:
Ни развязать нельзя, ни посмотреть,
Как будто в руку вложена записка —
И на нее немедленно ответь…
Вслед за сильно повлиявшим на него французским философом Анри Бергсоном Мандельштам противопоставляет рационально-логическое, «геометрическое» отношение к миру и познание творческое, в котором большую роль играет интуиция, образное мышление, прозрение, порыв. Каждый из этих подходов правомерен в своей области: интеллект выполняет практически-инструментальные задачи, творческое сознание создает новое.
Скажи мне, чертежник пустыни,
Арабских песков геометр,
Ужели безудержность линий
Сильнее, чем дующий ветр?
– Меня не касается трепет
Его иудейских забот —
Он опыт из лепета лепит
И лепет из опыта пьет.
Ноябрь 1933
Об этом восьмистишии автор данной книги написал отдельную работу [564] . В «арабских песках» мы склонны видеть замечательный образ неструктурированной, хаотической материи (она же и безличное время). Это подтверждается другими произведениями Мандельштама: в статье о Чаадаеве поэт говорит о противоположности «косной глыбы и организующей идеи» («Петр Чаадаев»), в стихотворении «В таверне воровская шайка…» (1913) вечность сравнивается с песком: «У вечности ворует всякий, /
А вечность – как морской песок: // Он осыпается с телеги – / Не хватит на мешки рогож…»; в «Стихах о неизвестном солдате» развоплощение, уничтожение предметности описано так: «Аравийское месиво, крошево, / Свет размолотых в луч скоростей…».
А чуть ниже прямо назван и песок: «Вязнет чумный Египта песок» (в одном из вариантов). «Геометру», подходящему к действительности с практически-рациональными целями, противостоит «ветр», символизирующий человека-творца, поэта (ветер – старый символ поэтического вдохновения). Но у Мандельштама мы встречаем не «ветер», а именно «ветр» – архаичная, свойственная в первую очередь поэзии XVIII – первой половины XIX века форма заставляет нас вспомнить о Пушкине: