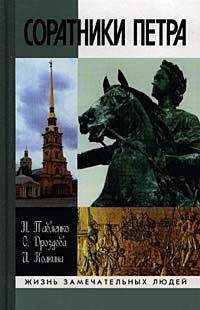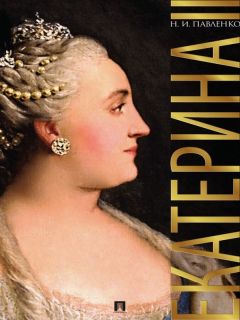Ответа на челобитную не последовало. Прошло еще восемь месяцев, и Макаров обратился с новой жалобой на суровые условия заточения: «…и не только к нам кого, но и нас до церкви Божии не допускают». Великодушие императрицы не простерлось дальше разрешения пользоваться опечатанными вещами, но без права их продажи и посещать церковь: «…по особливому нашему милосердию указали мы его, Макарова, арест таким образом облегчить, чтоб ему в церковь Божию ехать и прочие домашние нужды исправлять позволено».[510]
Видимо, с этой же челобитной были связаны изменения в судьбе конфискованных писем и прочих документов Макарова. Вопреки инструкции Извольскому немедленно доставить опечатанные бумаги Макарова в столицу они почти три года покоились в Москве. Лишь в сентябре 1737 года четыре сундука, две скрыни и две коробки с документами были привезены в Петербург. Понадобилось еще пять месяцев, чтобы Остерман удосужился повелеть Тайной канцелярии разобрать их, разделив на две категории: в первую включать «сумнительные» материалы, то есть те, которые, возможно, пригодятся следствию; во вторую – документы, в которых «важности никакой не явилось»: крепости, векселя, ведомости, купчие и прочие бумаги хозяйственного содержания.
Медлительность Остермана красноречива. Она свидетельствует о том, что следствие не располагало обличительным материалом, чтобы отправить Макарова в ссылку или на эшафот. Отметим в этой связи, что приговор по делу монахов, к которому был привлечен Макаров, вынесли и привели в исполнение в конце 1738 года: Яков Самгин и Григорий Зворыкин после вырезания ноздрей были сосланы – первый на Камчатку, второй в Охотск. Понесли наказание и прочие подследственные. Только у одного Алексея Васильевича никаких перемен: его продолжали держать под домашним арестом, правда несколько ослабив режим.
Остается предположить, что у Остермана и императрицы были какие-то надежды привлечь Макарова к громкому процессу бывших «верховников», пытавшихся ограничить самодержавную власть Анны Иоанновны еще в 1730 году. В 1739 году подвергся мучительной казни Артемий Петрович Волынский, первым осмелившийся решительно выступить против засилья немцев при дворе и громогласно заявивший: «Государыня у нас дура». Быть может, тюремщики Макарова надеялись, что кто-либо из Долгоруковых или Голицыных либо Волынский с сообщниками под жестокими пытками назовут и его имя. Этого не случилось.
Существует мнение, что Макаров был помилован. Оно основано на челобитной, поданной в 1741 году сыном Алексея Васильевича Петром. В ней он писал, что по именному указу «показанной отец мой всемилостивейше освобожден, а в прошлом 740 году волею Божиею умре». Однако из справки Тайной канцелярии следует, что указа «о свободе оного Макарова ис под караула» не было. В июне 1740 года, то есть накануне смерти, Макаров подал челобитную Кабинету министров «о сотворении с ним милости», но она осталась без последствий.[511]
Таким образом, Алексей Васильевич Макаров испытал в полной мере жестокость мрачного времени, когда трон занимала Анна Иоанновна, а страной правил Остерман. В последнее десятилетие своей жизни он стал жертвой «остермановщины» и предстает перед нами как трагическая личность. Макаров принадлежал к числу первых русских людей, поднявших голос против немецкого засилья. Этот голос был еще глухим и робким, но спустя несколько лет его подхватил решительный и энергичный Артемий Петрович Волынский.
Савва Лукич Владиславич-Рагузинский
«Московскому государству благопотребен»
В первых числах ноября 1702 года недалеко от Азова бросил якорь торговый корабль. Понадобилось 25 дней, чтобы он преодолел расстояние от Константинополя до русской крепости. Северный ветер отогнал воду от берега, и даже небольшое судно не могло пришвартоваться у стен города. Через несколько дней новая беда – необычайно рано начавшийся ледостав грозил гибелью и кораблю, и находившимся в трюмах товарам. Купец обратился за помощью к местным властям. Неискушенный в морском праве азовский воевода Степан Богданович Ловчиков ломал голову, как ему поступить.
Перед воеводой, прикованным параличом к постели, предстал средних лет статный мужчина с приветливой улыбкой. Внешний вид приезжего – тонкие черты лица, украшенного роскошными усами и копной вьющихся волос на голове, энергичный рот и выразительные глаза, излучавшие доброжелательность, изысканные манеры – располагал к себе собеседника. Но Ловчиков не поддался обаянию заезжего купца. Его одолевали сомнения: с одной стороны, приезжий предъявил рекомендательное письмо главы русского посольства в Османской империи Петра Андреевича Толстого, в котором посол аттестовал вручителя человеком «изящным», усердно оказывавшим услуги прежним посольствам и ему, Толстому. С другой – воеводу, человека подозрительного, неотступно преследовала мысль: быть может, это вовсе не коммерсант, а турецкий соглядатай, по терминологии того времени – шпик, предъявивший поддельное письмо, и прибыл он в пограничный город, быть может, совсем не для торговых дел. Ловчикова, видимо, смутило и то обстоятельство, что Толстой лестно отзывался о человеке, которого, по собственному признанию, никогда не видел.
Воевода пригласил офицеров-иноземцев и спросил, какие меры принимают в подобных случаях в европейских портах. Те ответили: «Если бы де в их государствах так учинилось, и они б де тому кораблю погибнуть не дали и ввели в гавань, потому что де бывают от того великий стыд и зазрение».[512] Ловчиков принял неотложные меры – корабль был приведен в гавань и разгружен. Среди привезенных товаров общей стоимостью в 8 тысяч рублей оказалось 700 пудов деревянного масла, 300 пудов оливок, кумачи, бумага, изюм, кушаки, венецианские зеркала, 20 бочек сельдей, 15 тысяч лимонов и пр. На берег сошли и три иноземных специалиста морского дела и кораблестроения, нанятые купцом на русскую службу. Помимо товаров и специалистов купец, как увидим позже, привез в Россию свой незаурядный талант.
Прибытие торгового корабля в недавно завоеванный город было событием столь необычным, что воевода немедленно донес о случившемся в Москву. Он не преминул сообщить, что купец изъявил желание отправиться с товарами в столицу, но в Азове нет ни подвод, ни лошадей.
В Москве были осведомлены об этих планах купца, ибо там было получено письмо, отправленное сменившим Голицына русским послом Петром Андреевичем Толстым еще 25 сентября 1702 года. Толстой отзывался о купце так: он «человек добрый, ныне по обнадеживанию моему поехал с товаром в Азов, а из Азова к Москве и просит о нем написать. Яви к нему милость, – обращался посол к руководителю внешнеполитического ведомства Федору Алексеевичу Головину, – а он всеконечно во странах сих Московскому государству благопотребен». На основе этой информации на запрос Ловчикова из Москвы последовал ответ: срочно купить лошадей и отправить купца в столицу.