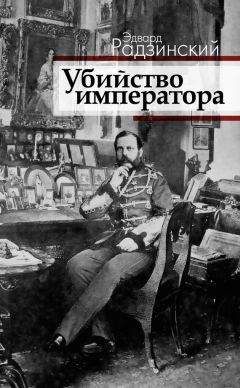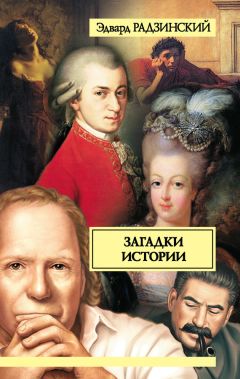Узнав от него, что тот мещанин (наконец-то не дворянин!), государь сказал с облегчением: – Хогош! (Он грассировал.)
И погрозив Рысакову пальцем, пошел к своей карете по панели.
Полковник Дворжицкий снова стал просить царя:
«Тут я вторично позволил себе обратиться к государю с просьбою сесть в сани и уехать, но он остановился, несколько задумался и затем ответил: “Хорошо, только прежде покажи мне место взрыва”».
В это время подошел возвращавшийся с развода взвод 8-го флотского экипажа.
И царь, плотно окруженный этим взводом и конвойными казаками, направился наискосок – к образовавшейся на мостовой яме.
Дворжицкий: «Исполняя волю государя, я повернулся наискось к месту взрыва, но не успел сделать и трех шагов…».
Молодой человек, стоявший боком у решетки канала, выждал приближение царя. И вдруг повернулся, поднял руки вверх и бросил что-то к ногам государя…
Это и был Игнатий Гриневицкий.
Раздался оглушительный взрыв… И государь, и окружавшие его офицеры, казаки, и сам молодой человек, бросивший бомбу, и народ поблизости – все сразу упали, точно всех подкосило. На высоте выше человеческого роста образовался большой шар беловатого дыма, который, кружась, стал расходиться, опустился книзу…
«И я видел, как государь упал наперед, склонясь на правый бок, а за ним и правее его… упал офицер с белыми погонами. Этот офицер спешил встать, но, еще чуть приподнявшись, потянулся через спину государя и стал засматривать ему в лицо» (из показаний очевидца).
Офицер с белыми погонами и был Дворжицкий.
Дворжицкий: «Я был оглушен новым взрывом, обожжен, ранен и свален на землю. Вдруг среди дыма и снежного тумана я услышал слабый голос Его Величества: “Помоги!”. Собрав оставшиеся у меня силы, я вскочил на ноги и бросился к государю. Его Величество полусидел-полулежал, облокотившись на правую руку. Предполагая, что государь только тяжко ранен, я приподнял его, но у государя были сильно раздроблены ноги, и кровь из них сильно струилась».
Два десятка убитых и раненых лежали на тротуаре и на мостовой. Некоторым раненым удалось подняться, другие ползли, третьи пытались освободиться из-под упавших на них. Среди снега, мусора и крови виднелись остатки изорванных мундиров, эполет, сабель и куски человеческого мяса. С головы царя упала фуражка; разорванная в клочья шинель свалилась с плеч; из размозженных голых ног лилась струями кровь. Царь слабым голосом повторял и повторял: «Холодно… холодно… холодно…». Бесчисленные раны покрывали его лицо и голову. Один глаз был закрыт, другой смотрел перед собой без всякого выражения.
Взрыв был так силен, что на газовом фонаре все стекла были выбиты и самый остов фонаря искривило.
Вокруг Самодержца Всероссийского, умиравшего на окровавленной мостовой среди грязного снега, обрывков одежды, выросла толпа: только что подошедшие юнкера Павловского училища, прохожие, полицейские, уцелевшие казаки. Шатаясь, стоял над ним полковник Дворжицкий…
Недалеко от царя в луже крови умирал бросивший бомбу Гриневицкий.
В это время примчался в карете великий князь Михаил Николаевич. В Михайловском дворце он услышал взрыв и тотчас погнал карету к месту происшествия. Великий князь встал на колени на мостовой.
Услышал голос брата: «Скорее… домой!»
И сознание покинуло царя вместе с хлеставшей из ног кровью.
Если бы государя повезли в Военный госпиталь, находившийся рядом, то успели бы остановить кровотечение и он, возможно, остался бы жив.
Но его повезли во дворец.
Внести кровоточащее тело в карету было невозможно. И десятки рук понесли окровавленного императора к открытым саням Дворжицкого.
Среди тех, кто помогал нести истекавшего кровью царя, был третий метальщик, Иван Емельянов. В портфеле у Емельянова лежала бомба, которой он должен был убить царя в случае неудачи первых метальщиков…
И сани двинулись во дворец. В эти сани был запряжен знаменитый конь Варвар. Тот самый, который долго служил народовольцам… Теперь его захватила полиция, и он служил ей. Когда-то Варвар умчал от полиции Степняка-Кравчинского и Баранникова после убийства шефа жандармов Мезенцова. Теперь он вез во дворец умиравшего царя.
Казаки, стоя в санях, придерживали бесчувственное тело Александра – их шинели намокли от царской крови.
Его привезли в Зимний дворец к Салтыковскому подъезду. Но двери оказались слишком узкие, чтобы толпой внести его на руках. Носилок в Зимнем дворце… не оказалось! И они выломали двери, и все вместе на руках несли Александра II по ступеням мраморной лестницы в его кабинет, где 20 лет назад он подписал Манифест об освобождении крестьян и где сегодня утром проложил путь к русской Конституции. Мраморные ступени и путь по коридору до царского кабинета были покрыты его кровью.
Вот так окончилось седьмое покушение на царя.
Лейб-медик Ф.Ф. Маркус:
«Вбежав в кабинет, я нашел царя в полулежачем положении на кровати, которая была выдвинута из алькова и помещена почти рядом с письменным столом, так что лицо императора было обращено к окну. Государь был в рубашке без галстука, на шее у него был прусский орден… на правой руке была надета белая замшевая перчатка, местами перепачканная кровью. У изголовья стоял в полном парадном мундире великий князь Михаил Николаевич со слезами… Когда я подбежал к кровати, первое, что мне бросилось в глаза, это страшно обезображенные нижние конечности, в особенности левая, которая, начиная от колена, представляла раздробленную кровяную массу; правая конечность была тоже повреждена, но менее левой. Обе раздробленные конечности были на ощупь холодные. …Я стал придавливать как можно сильнее обе бедренные артерии, биение которых уже было едва ощутимо, думая этим самым сберечь хотя остаток крови… Государь находился в полном бессознательном состоянии… Все старания врачей, прибывших после меня, оставались тщетными – жизнь государя угасала…»
И царь умрет, оставив нам эту тайну – почему же он, отлично осознававший всю опасность, немедля не уехал с канала после взрыва первой бомбы? Почему так долго и странно разгуливал вдоль смертельно опасного канала – будто чего-то ждал? Что было за этим ожиданием? Усталость от борьбы с камарильей, сыном, с этими молодыми безумцами, охотившимися на него, как на дикого зверя – и оттого нежелание жить? «Давно, усталый раб, замыслил я побег…» Или абсолютная вера, что Бог охранит его и он неуязвим? И он решил еще раз доказать это себе и окружающим? Он не хотел позволить им запугать себя?