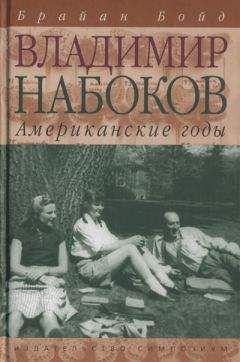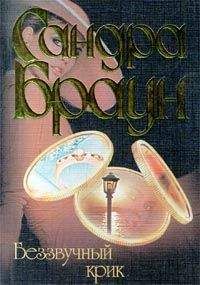Натуралист Набоков категорически не согласен с тем, что англоязычным читателям Пушкина не дано увидеть русскую природу. Чтобы перевести название русского дерева, ему, говорит он, пришлось усомниться в общепринятом словарном эквиваленте, в том всеобъемлющем термине, который в действительности ничего не объемлет. Слову, которое ему требовалось, надлежало не просто заполнить место в строке, оно должно было зажечь воображение так же, как русский его аналог зажигает воображение русское:
В словарях «черемуха» обычно переводится как «bird cherry» (буквально «птичья вишня»), значение этого слова расплывчато и практически ничего не объясняет. «Черемуха» — это «птичья вишня» вида racemosa Старого Света, фр. Putier racemeux или Padus racemosa (Schneider). Русское название с его пушистыми, мечтательными созвучиями как нельзя лучше соответствует образу этого прекрасного дерева с характерными длинными кистями цветков, которые придают всему его облику в период цветения мягкую округлость. Будучи распространенной обитательницей русских лесов, черемуха одинаково уютно чувствует себя и на берегах рек по соседству с ольхой, и в сосновом бору; её кремово-белые с мускусным запахом майские цветы ассоциируются в русской душе с поэтическими волнениями юности. У этой «птичьей вишни» нет точного видового английского названия (хотя есть несколько родовых, но названия эти либо неточны, либо омонимичны, либо и то и другое вместе), которое могло бы соперничать как с педантизмом, так и с безответственностью глупейших наименований, упорно перетаскиваемых вредоносными буквоедами из одного русско-английского словаря в другой. Одно время я полагался на обычно точный Словарь Даля и называл дерево по-латыни Mahaleb, однако последнее оказалось совсем другим растением. Позднее я придумал термин «musk cherry» (буквально «мускусная вишня»), вполне созвучный названию «черемуха» и прекрасно передающий особенность её аромата, но, увы, намекающий на вкус, совершенно не свойственный её маленьким, круглым и черным плодам. Теперь же я употребляю научное название, благозвучное и простое «racemosa», и пользуюсь им как существительным, рифмующимся с «мимозой»46.
Сравните это с переложением Бабетты Дейч, которая, передавая дотянувшееся до утра бдение Татьяны на балконе, заменяет пушкинское «и, вестник утра, ветер веет, и всходит постепенно день» своим собственным: «day would soon be on the march, And wake the birds in beech and larch» («день вскоре придет маршем и разбудит птиц в буках и лиственницах») (Глава 2:XXVIII). Набоков спрашивает, что делают здесь все эти птицы и деревья: «Почему так, а не иначе? Например, так: „And take in words to bleach and starch“ („И внесет в дом слова, чтобы их побелить и подкрахмалить“) или какая-нибудь другая ахинея. Еще один очаровательный штрих: буки и лиственницы совсем не характерны для западной и центральной России и посему никогда бы не пришли на ум Пушкину при описании парка Лариных».
Любовь Набокова к самой сущности вещей, его отказ принимать такие подстановки, как «буки и лиственницы» у Дейч, приводит к нескольким восхитительным отступлениям. Примечание о пушкинских «трюфлях» он начинает с того, что знакомит нас с откопанными им упоминаниями о трюфелях в английской и французской литературе начала девятнадцатого века: «Нам, в век безвкусных синтетических продуктов, трудно поверить, какой любовью пользовались эти восхитительные грибы»47. По поводу пушкинского «beef-steak» он приводит следующее замечание: «Европейский бифштекс представлял собой небольшой, толстый, темно-красный, сочный и нежный кусок мяса, особую часть вырезки, справа щедро окаймленную янтарным жиром, и имел — если имел — мало общего с нашими американскими „стейками“, безвкусным мясом нервных коров. Ближайшее подобие такого beef-steak'a — филе-миньон»48.
Набоков пристальнее, чем какой-либо иной комментатор, останавливается на подробностях, относящихся до блюд, моды, растительного мира, — как если бы персонажи Пушкина населяли реальный мир. С другой же стороны, он отрицает какое бы то ни было их историческое значение как представителей русского общества. Как может он живо утверждать одну реальность и отрицать другую? Не впадает ли он в извращенную непоследовательность?
Нет. Во-первых, Набоков с готовностью принимает конкретные подробности, выплеснутые воображением Пушкина, и в то же время не может понять, какое отношение имеет оно к обобщенному представлению о России, распространенному в пушкинское время (и чем распространеннее оно было, тем с меньшей вероятностью могло удовлетворить в высшей степени индивидуальное воображение Пушкина) или предложенному с той поры тем или иным склонным к обобщениям историком. А во-вторых, он знал, в какой мере искусство Пушкина питалось искусством иных стран и иных времен.
Молодой романтический поэт Ленский может показаться типичным представителем эпохи романтизма, однако Набоков предостерегает нас: «Было бы ошибочно считать Ленского, лирического любовника, „типичным представителем своего времени“» и продолжает, цитируя, между прочим, отрывок из соавтора Шекспира Флетчера, который выглядит в нем чистейшей воды Ленским. Набоков пишет о Татьяне как о «типе» («любимое словечко русской критики»):
99 процентов аморфной массы комментариев, порожденных с чудовищной быстротой потоком идейной критики, которая уже более ста лет не дает покоя пушкинскому роману, посвящена страстным патриотическим дифирамбам, превозносящим добродетели Татьяны. Вот она, кричат восторженные журналисты белинско-достоевско-сидоровского толка, наша чистая, прямодушная, ответственная, самоотверженная, героическая русская женщина. Но французские, английские и немецкие героини любимых романов Татьяны были не менее пылки и добродетельны, чем она49.
В примечаниях, относящихся к последней главе поэмы, Набоков в доказательство своих доводов цитирует достаточно близкие параллели из Руссо, Константа, Мадам де Крюденер, Гёте, Ричардсона и других.
Самого Онегина социальные анатомы препарировали бесконечно. Набоков отыскивает литературных предшественников молодого Онегина с его угрюмостью, английским сплином и французской скукой, причем показывает, что к 1820 году это было «испытанным штампом характеристики персонажей, и Пушкин мог вволю с ним играть, в двух шагах от пародии, перенося западноевропейские шаблоны на нетронутую русскую почву». Однако русские критики желали превратить Онегина в нечто большее. В попытках объяснить Онегина, замечает Набоков:
Русские критики с огромным рвением взялись за эту задачу и за столетие с небольшим скопили скучнейшую в истории цивилизованного человечества груду комментариев. Для обозначения хвори Евгения изобрели даже специальный термин: «онегинство»; тысячи страниц были посвящены Онегину как чего-то там представителю (он и типичный «лишний человек», и метафизический «денди», и т. д.). Бродский (1950), взобравшись на ящик из-под мыла, употребленный с той же целью за сто лет до него Белинским, Герценом и иже с ними, объявил «недуг» Онегина результатом «царской деспотии».