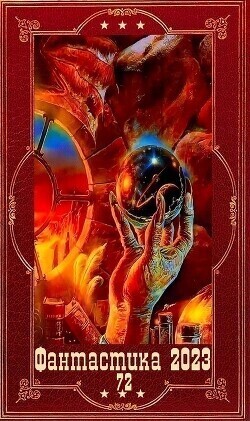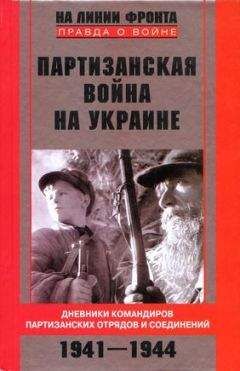меня. Много солдатских лиц успел повидать я за время, проведенное на передовой. Видел усталых и озлобленных, веселых и пьяных, видел умных и глупых, хитрых и простодушных, тупых и остроумных, ленивых и трудолюбивых, замкнутых и общительных. Видел самых разных по характеру, возрасту, темпераменту и воспитанию.
Здесь же было нечто совсем иное – было то, с чем мне еще не приходилось сталкиваться. Большинство солдат, проходивших мимо, смотрели мрачно и отчужденно. Это не было ненавистью или неприязнью. Нет! Это был взгляд полного безразличия, состояния фатальной отрешенности. Такой взгляд довелось наблюдать мне однажды – у приговоренного к расстрелу на краю вырытой могилы.
По дороге из тыла шли Смилык с термосом за плечами и новая смена разведчиков-наблюдателей и телефонистов.
– Что там, сзади? – спрашиваю я у своих ребят.
– Умора, товарищ лейтенант, – смеется Смилык, – пехота, як те чумаки с Хохландии, на волах идуть. Знаете это: «цоб цобэ батько». 3 виткиля воны таки узялись?
– Слышал я, «запорожская» это дивизия, – говорит Квасков, – за взятие города Запорожье ей такое звание присвоили. А теперь вот, значит, их сюда перебрасывают.
– Сначала они вроде как на переформировании были, – перебивает Кваскова Логинов, – и уж потом их сюда-то кинули.
– Ладно, – говорю я, – сегодня глядеть в оба. У приборов не спать! Свободный наряд отдыхать внизу будет. В тылы не пойдет.
В три часа дня на НП появился капитан Солопиченко. Он уже принял дивизион от Коваленко и пришел на передовую ознакомиться с обстановкой. Землянка его дивизионного наблюдательного пункта вырыта неподалеку, слева от нашей скалы. Встретились мы с Георгием как старые и добрые товарищи. Тем не менее я чувствовал явное превосходство Георгия над собой – не потому, что он капитан, а я лейтенант. Нет. Я видел в нем натуру в военном смысле более совершенную и органичную, способную на большую отдачу, на большую волевую нагрузку.
– Как в госпитале? – спрашиваю я у Георгия.
– Отдохнул, – отвечает, – видишь, рожу какую нагулял. По Ленинграду пошлялся. Штаны дырявые на крепкие сменил.
– А у меня и те, что были, у покойного Зинкевича сперли.
– Ничего, – смеется Георгий, – новые получим. Как тут у вас?
– Пехоту новую видел? Что скажешь?
– Поживем – увидим.
– Не нравятся мне что-то эти запорожцы. Видел, как вчера при штабе тернопольских мужиков раскурочило?
– Если уж откровенно, – мрачно заметил Солопиченко, – как бы тут похуже чего не случилось. Ухо востро держать надо. Знаешь, глядя на них, я сегодня сорок первый год вспомнил. Получил я тогда после училища взвод тяжелых гаубиц. И пополнение вот таких же мужиков из запаса. Провожу занятия. А сам вижу: слова мои от них отскакивают как от стенки горох. Спрашиваю: «Все ясно?» Молчат. Наконец, один из них и говорит: «Знаешь, сынок, не дури ты нам голову. Мы как немца увидим, враз руки подымем. Воевать мы не станем». И тут вот такое же случиться вполне может. Я это по лицам их вижу.
Командование наше также не доверяло запорожцам. Дивизию генерала Кроника, выведенную в тыл, расположили в трех-четырех километрах от переднего края обороны на линии второго рубежа траншей. А кроме того, были вызваны специальные заградотряды наркомата внутренних дел. Пожалуй, единственный случай на нашем фронте.
Ощущение скрытого беспокойства не покидает нас. Спали сном тревожным и чутким. Наблюдатели, усиленные дополнительными постами, реагировали на каждый подозрительный звук, на каждое неожиданное движение на стороне противника. Ночь, однако, прошла спокойно, и ничто, казалось, не предвещало беды.
17 июля. На озере заискрились радужными блестками первые лучи подымающегося над лесом солнца. Осветились холодно-лимонными тонами макушки берез. Вспорхнули и пронеслись в воздухе утиные стаи. Тихо.
Достав «Журнал наблюдений», я фиксирую в нем дату и время: «Пять часов сорок минут утра. Противник остается на прежних рубежах. Положение спокойное – никаких признаков боевой активности со стороны финнов…»
Только я собрался написать слово «не наблюдается», как кто-то из солдат истошно заорал: «Воздух!» И крик этот, как эхо, повторился еще в нескольких местах. Я ничего не слышал, кроме этого крика, не было ни звука летящих самолетов, ни шума моторов. Я инстинктивно опрокинулся назад, навзничь, задрав голову к небу. «Журнал наблюдений» выскользнул из рук. И там, вверху, увидел я распластавшийся «Юнкерс-87» с черными крестами опознавательных знаков, пикирующий прямо на меня. От его брюха оторвались три бомбы и в полной тишине спускались вниз. Две из них уходили вправо к озеру, а третья падала прямо на меня. Едва я успел юркнуть в пещеру под камни, как услышал выматывающий душу воющий свист и всё сотрясающий взрыв бомбы. Она рванула в двух метрах от нашей «лисьей норы», ударившись взрывателем о плотный гранит нашей скалы. Ни малейшего признака воронки – только лишь сожженный мох да толовая гарь звездообразно лучами расшвырянная в стороны.
– Все целы? – крикнул я.
– Уси, – отозвался Ефим Лищенко, – выстояли, нэ разволились.
– Берегись, – кричит Логинов, – идут по-новому!
Второй заход «юнкерсов» был для нас менее опасен. Они бомбили передний край, уходивший от нас влево. В бинокль хорошо было видно, как бомбы ложились по изгибам траншей. Едва «юнкерсы» отбомбили, как мощный гул орудий со стороны финнов возвестил о начале артналета.
– Это вже зовется артиллерийской прохвилактикой, – произнес Лищенко и со словами: – Ховайтесь, товарищ лейтенант, – мигом юркнул в пещеру.
Разрывы снарядов и тяжелых мин не заставили себя ждать. Было очевидно, что наша скала находится под прицельным огнем. Иногда нам казалось, что по нам непосредственно лупят орудия прямой наводки.
– Живы? – спрашиваю я.
– Живы! – отвечают солдаты.
Наши камни, образующие «лисью нору», буквально дрожат и вибрируют. Воздух стал спертым, удушливым от запахов гари и какой-то омерзительной вони. Идут томительные минуты, а финская артиллерия все молотит и молотит по нашей скале. Прошло четверть часа, а огонь финнов не снижает своей интенсивности. Снаряды рвутся с методической пунктуальностью, словно прощупывая то самое место, где прячутся от них под камнями несколько человек. В воздухе висит микроскопическая пыль, порхает рваная листва деревьев, с фырканьем проносятся осколки снарядов, гранита и земли. Падают срезанные снарядами стволы деревьев. А вокруг все лопаются и лопаются с диким остервенением и настойчивостью мины и снаряды. Вокруг нас царит сущий ад. Но нам уже начинает казаться, будто наша «лисья нора» очерчена чертой таинственного заклятия, за которую, как у Хомы Брута, нет доступа злой силе разрушения. Нужно только не смотреть в глаза «Вию», и ты останешься невредим.
– Товарищ лейтенант, – шепчет Ефим Лищенко, – вроде как наши бьють.
Действительно, сзади нас ухо стало улавливать все более и более нарастающий звук выстрелов минометных батарей. Сомнения не