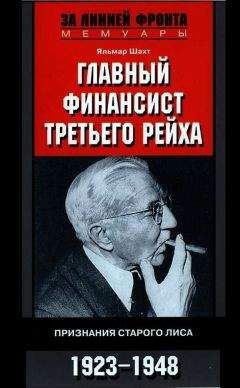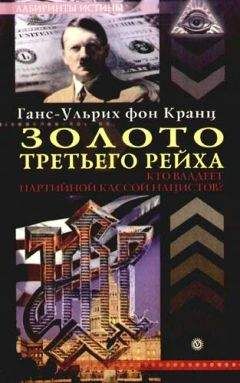После замечательного перелета над Лигурийским заливом и его островами к французскому побережью сквозь ужасную бурю на юге Франции мы произвели наконец посадку на аэродроме Орли близ Парижа. Всего нас было двенадцать интернированных. Это был первый этап полета, который закончился у замка Крансберг в горах Таунус. Во время войны Герман Геринг избрал этот замок в качестве западной штаб-квартиры люфтваффе. С этой целью Шпеер привел его в порядок и сделал новую большую пристройку из нескольких комнат и большого зала с прекрасным камином.
Теперь замок, очевидно, использовался в качестве лагеря для ВИП-заключенных, особенно технических специалистов и ученых. Временами в нем содержалось 40–50 интернированных. Короче говоря, здесь происходила постоянно меняющаяся чреда встреч с важными людьми, почти всех из которых я знал как представителей экономических и научных кругов Германии.
Вообще говоря, время с начала июля до конца сентября нельзя было назвать неприятным. Мы жили в чистых комнатах. Нас великолепно кормили: давали шоколад, фрукты, апельсины, табак и другие вещи в том количестве, в каком мы желали. Мы проводили время, играя в карты, слушая лекции, беседуя и обсуждая интересующие нас темы. Это происходило в большом зале. Днем мы прогуливались в небольшом, но хорошо спланированном саду, прилегавшем к замку. Но мы оставались заключенными.
Не мог комфорт Крансберга устранить мое глубокое беспокойство о семье, которое я переживал со времени пребывания во Флоссенбюрге. Именно там я после продолжительного перерыва получил последнюю записку от своей жены, которая была написана еще в нашем загородном доме близ Берлина. С того времени, то есть с марта 1945 года, я больше не имел о ней вестей. Я не имел никакого представления о том, живы ли члены моей семьи, где они, что с ними случилось после того, как русские заняли Берлин. Сообщения по радио и слухи, иногда доходившие до нас, были в высшей степени тревожными.
Сразу по прибытии в Крансберг я пытался связаться с женой. Британский подполковник обещал передать мое письмо. Дональд Хит, мой старый знакомый по посольству США в Берлине, торжественно обещал, что использует все свои дипломатические связи, чтобы сообщить жене обо мне. Никто из них не сдержал своего обещания.
Наконец к середине августа я получил весть по каналу, который обычно определяется словом «подпольный». Работу по дому выполняли несколько женщин-поденщиц, которые также пожелали стирать наше белье и приходили в замок из деревни каждое утро. Как-то раз одна из этих женщин незаметно вызвала меня в умывальню. Там она вручила мне коробку сигар и письмо, которые принесла в деревню Крансберг какая-то незнакомка и передала этой женщине. Со времени краха Германии эта «незнакомка» жила в небольшом поместье моей замужней дочери в Баварии. Дочь узнала, что я нахожусь в замке Крансберг, и в письме, вложенном в коробку с сигарами, сообщала, что две маленькие дочери от моего второго брака находятся с нянькой в Люнебургской пустоши. О моей же жене дочь не имела сведений.
Во время последнего свидания я просил жену оставаться в нашем загородном доме в Гюлене и стараться сохранить его для нас до окончания войны. Моя голова была забита представлениями о Первой мировой войне, когда еще пользовалась уважением собственность других людей. Во всяком случае, я не мог не предположить после прочтения письма дочери, что жена осталась в Гюлене. Между тем к нам поступило достаточно известий о поведении русских в отношении немецких женщин, чтобы вызвать у меня большую тревогу за судьбу жены.
Затем, к концу августа, в Крансберг прибыл доктор Брандт, один из личных врачей Гитлера. Незадолго до того, как его арестовали американцы, он беседовал с моей женой и, по крайней мере, мог заверить меня, что она жива. Непосредственную весточку от жены я получил гораздо позже, когда уже был заключен в Нюрнбергскую тюрьму. Почти девять месяцев я оставался в неведении о всех ее испытаниях.
Глава 55
Нюрнбергская тюрьма
В Крансберге в конце августа мы услышали по радио о том, кто из немцев должен предстать перед Международным военным трибуналом в предстоящих процессах над военными преступниками. К моему величайшему удивлению, в их число включили и меня. Кроме Шпеера и меня, в Крансберге не было ни одного из обвиняемых. До сих пор мы полагали, что против нас не будут выдвигать обвинения.
В преддверии Нюрнберга меня отвезли на три недели в лагерь близ Оберурзеля. Он был широко и по праву известен как «Клетка». Камеры фактически представляли собой клетки. Скамьями служили просто деревянные доски, покрытые одеялом. Пищу давали два раза в день: один раз утром, другой — в четыре часа пополудни. Она состояла большей частью из недоваренного гороха, с которым желудок едва справлялся. Пребывание на свежем воздухе ограничивалось десятью минутами в день. Ни книг, ни газет не было. Это были наихудшие условия заключения, в которых мне приходилось находиться.
По прошествии трех недель меня посадили в машину рядом с генералом Варлимонтом и с казначеем НСДАП Шварцем впереди. Снова нам не сообщили о пункте назначения. Лишь по указательным столбам мы угадывали направление движения и после полудня подъехали к тюрьме Дворца правосудия в Нюрнберге.
Даже по прибытии в Нюрнбергскую тюрьму со мной крайне невежливо обращался американский комендант тюрьмы полковник Эндрюс. Я объяснял, что не являюсь ни преступником, ни осужденным, но заключенным, ожидающим допроса, и что я невиновен. Он отвечал, что его это не касается.
Тюремный регламент, навязанный нам, доходил до того, что запрещалось подниматься на стул, чтобы посмотреть в зарешеченное окно, расположенное под самым потолком. Это мотивировалось необходимостью предотвратить подачу узнику сигнала снаружи. Первоначально в камерах были массивные, крепкие столы, на которых можно было писать. Но такие столы можно было использовать для того, чтобы дотянуться до окон. Поэтому позднее крепкие столы вынесли и заменили неустойчивыми деревянными сооружениями в виде хрупких верстаков, покрытых сверху тонким картоном. Писать на таких столах было настоящим мучением, поскольку поверхность не переставала колебаться. А между тем все одиннадцать месяцев, в течение которых длился трибунал, нам приходилось много писать хотя бы только для того, чтобы снабжать информацией защиту.
Камеры были оборудованы туалетами. Раз в неделю нас выводили в баню. Можно было получать книги из тюремной библиотеки, но так как в ней не было почти ничего, кроме нацистской литературы, которую новые власти позабыли выбросить, то я обычно обходился без книг. После оправдания одна британская газета охарактеризовала меня как самого упрямого из всех узников Нюрнберга. Я горжусь этим.