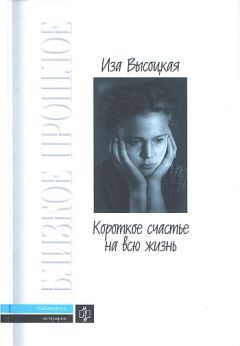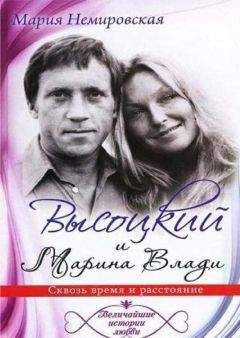По местной трансляции можно было слушать репетиции и спектакли, ни с чем не сравнимый предвкушающий шум зрительного зала и голос помощника режиссера, приглашающий актеров на выход. Первую неделю я болела. Лихорадка обметала губы, от носа до подбородка, и я боялась выходить. Тихо-тихо, затаившись, сидела я на широком низком подоконнике, слушала шаги и голоса за дверью и скоро научилась узнавать, какой голос каким шагам принадлежит. В середине дня, когда в театре, как мне казалось, оставался один самый строгий вахтер на свете, я проскальзывала на улицу, чтобы купить чего-нибудь поесть и добежать до главпочты — опустить свое письмо и получить Володино, скорее принести его в еще не мою комнату, снова мимо вахтера, всякий раз требовавшего пропуск, хотя прекрасно знавшего, что я живу в театре, приютиться в зеленой каштановой тени подоконника и читать и перечитывать мелкий почерк Володиных строчек — то смешных, то грустных, искать тайный смысл в самых простых словах и в том, как сбегают строчки. Письма складывались в стопочку и перед сном проверялись — все ли на месте.
Потом было собрание труппы, где нас с Алешей Одинцом представили торжественно по имени-отчеству. Алеша показывал мне Киев, закармливая пампушками у каждого ларька. Его мама — жили они недалеко от театра — потчевала борщом и варениками. Я осмелела, стала выходить из своей кельи и уже точно знала, что самым легким шагам принадлежал голос Олега Борисова. Познакомилась и с моим соседом, заведующим труппой В. Дудецким, душевным человеком, до того чудесным, что даже стук его пишущей машинки за стеной как бы говорил: «Я здесь, рядом, хочешь помогу?» И помог. Он оставлял мне ключ от кабинета, а там был телефон, и Володя мог звонить мне по ночам. Теперь днем я получала от него письма, а ночами ждала, когда задребезжит за стеной телефон, опрометью, боясь не успеть и разбудить вахтера на первом этаже, кидалась в коридор, умоляла ключ поторопиться, хватала трубку и слышала: «Здравствуй, это я!» Сначала разговоры были короткие, трехминутные. Потом мы заметили, что телефонистки не прерывают нас, и часами болтали и хихикали, и только когда разговор заходил о каком-нибудь деле, вклинивался посторонний женский голос и требовал про любовь. Я босая, в ночной рубашке, в пустом театре в Киеве — и Володя, накрывшись одеялом, чтобы никого не разбудить, на 1-й Мещанской в Москве.
В Киеве жила Володина бабушка по отцу Ирина Алексеевна (по паспорту Дарья, я не знала об этом, да и к чему). По выходным дням я ходила к ней не всегда охотно, но всегда обязательно. Небольшого роста, тяжело из-за больных ног ходившая, коренастая, всегда прямая, она казалась массивной и властной.
Мы — дома. 1958 год. Эту фотографию мне дала Нина Максимовна в августе 1980 года.
Ее второй муж, высокий, крупноголовый, молчаливый, был как бы ее тенью, сопровождающим, удивительно незаметным при ней. Еще была невзрачная, ворчливая, снующая домработница. Дом томил скучностью, ощущением старости и постоянным полумраком, живущим там. И тем не менее что-то влекло в этот дом. Возможно, честность и открытость отношений. И это была Володина бабушка, по-своему заботившаяся обо мне.
Она была косметологом. Ее преданные клиентки, скорее пациентки, посещали ее по пятнадцать — двадцать лет. Они выделялись фарфоровой белорозовостью лиц, пугающей контрастом с тяжеловесной рыхлостью тела. Своим невесткам Евгении Степановне и Шуре Ирина Алексеевна постоянно посылала кремы своего приготовления. Я тоже стала получать каждый месяц две баночки: розовый — дневной и белый — ночной нежности и ритуально умащалась, веря в похорошение и вечную молодость. Однажды, спасая меня от насморка, театральная медсестра передержала кварц. Наутро после спектакля лицо мое чудовищно раздулось. Ирина Алексеевна тотчас пришла на помощь и быстро привела меня в порядок.
Она любила меха и драгоценности. Однажды я пришла, когда меха пересыпали свежим нафталином. Ирина Алексеевна тут же принялась примерять на меня манто, палантины, жакеты — всю пушистую гору — и всякий раз, любуясь вещью, с удовольствием говорила: «Нет-нет, тебе не идет». Долго потом меня преследовал нафталинный дух.
Перед моим днем рождения, уведя меня в спаленку, чтобы тет-а-тет, очень серьезно спросила: «Если бы одной молодой даме решили подарить нитку жемчуга или шелковые чулки, что бы она предпочла, как думаешь?» — «Я думаю, жемчуг», — обмирая, прошептала я и получила длиннющую нитку древней облупившейся бижутерии. Уж лучше бы чулки. (Через несколько лет, работая во Владимире, я расшила свой костюм Дианы из «Собаки на сене» этим жемчугом.)
Ирина Алексеевна с мужем были на всех премьерных спектаклях. Места были постоянные — 1-й ряд, 14–15-е кресла. Рядовые спектакли не посещались. Я никогда не смотрю в зал в щелочку, подглядывая за зрителем. Зал для меня всегда тайна, и она не может дробиться на конкретные лица, но на премьерах я знала точно — бабушка на месте, волосы светятся белокуростью, тщательно завиты и уложены и заколоты чем-то старинным и ярким, палантин обнимает плечи, пальцы блистают перстнями, осанка гордая, светлые глаза смотрят точно и требовательно. Когда в газетах появились хвалебные рецензии обо мне, Ирина Алексеевна сияла гордостью и настоятельно рекомендовала своим клиентам, знакомым и друзьям немедленно идти «смотреть эту чудо-девочку», а мне беречь себя, не сидеть на сухомятке и больше есть витаминов.
Когда я заболела и не смогла прийти на воскресный обед, они пришли ко мне сами с бульоном, котлетами, тертой морковкой и другими витаминами, и наш цербер-вахтер пропустил их без пропуска.
Когда приезжали Семен Владимирович с Евгенией Степановной, Леша с Шурочкой или Володя, или все разом, Ирина Алексеевна оживала, глаза молодо блестели, молодел голос и исчезала монументальность. Она страстно любила своих мальчиков, звала их смешными детскими именами. Семена Владимировича звала Котей, подкладывала лучшие кусочки и считала, что у ее «мальчиков» именно такие жены, какие им нужны. В доме светлело. Мне Ирина Алексеевна говорила: «С Володей нужно быть всегда за руку, куда он — туда и ты».
Уже актриса. Мое боевое крещение. Соня в спектакле М. Соболя «Вот я иду». Киевский театр им. Леси Украинки. Киев. 1958 год.
Ирина Алексеевна с мужем, имени которого я даже не помню по легкомыслию и эгоизму молодости, пережили оккупацию Киева. Говорили об этом редко и скупо; как шли по улицам в полном молчании старики, дети, женщины, мужчины… шли в Бабий Яр и знали зачем… И страшно было смотреть в окно и не смотреть страшно…