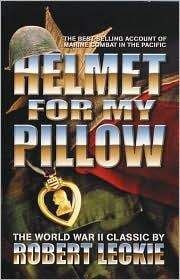Мы с облегчением сбросили с плеч винтовки. Физиономия майора побагровела, приобретя цвет восхода в море. По рядам пробежала дрожь веселья. Ее нельзя было услышать, зато легко можно было почувствовать. Майор прибавил шагу, словно спешил покинуть проклятое место.
Когда Старина Ганни посмотрел ему вслед, его физиономия выражала явное удовлетворение. Удивительно, но он улыбался, как Чеширский Кот, — он весь был улыбкой.
Прибывший высокий гость нас не инспектировал — во всяком случае, если и инспектировал, то не мою роту. Я всегда считал, что в те отчаянные дни он прибыл в Нью-Ривер только для того, чтобы удостовериться, что здесь действительно есть люди, словно он втайне подозревал, что 1-я дивизия морской пехоты, как многие наши военные подразделения в то время, существует только на бумаге.
В тот день завершился период наших тренировок на берегу. Как только прибывшие гости вернулись на свой катер, мы покинули лагерь. Мы возвращались к относительному комфорту — домам, столовым, торговым лавкам. Этому нельзя было не радоваться. Война все еще была от нас далеко. Война была от нас очень далеко, и мы даже не подозревали, насколько важен был визит высокого лица.
* * *
На базе жизнь шла намного легче. Офицеры заметно подобрели. Нам даже давали увольнения на 62 часа — с четырех часов пятницы до утра понедельника. Окрестные городки моментально лишились своей привлекательности — мы стали ездить домой. Шоссе, начинающееся сразу за пределами расположения нашей части, было забито таксомоторами. В пятницу вечером они подъезжали друг за другом, грузили морских пехотинцев и, рыча, отбывали. Обычно мы впятером брали такси до Вашингтона, расположенного примерно в 500 километрах. Оттуда в Нью-Йорк можно было попасть на поезде. Удовольствие получалось довольно дорогое: по 20 долларов с каждого для водителя, который довозил нас до вокзала и в воскресенье вечером возвращал обратно в расположение части. Понятно, что деньги на это давали родители. Рядовой, получающий 21 доллар в месяц, не может позволить себе такой роскоши, так же как и рядовой 1-го класса, получающий чуть больше — 26 долларов в месяц. Именно до этого звания я не так давно дорос. Такси было дорогим, но самым быстрым и надежным способом путешествовать. Железнодорожная служба работала намного медленнее и не слишком регулярно. Малейший сбой — и в понедельник утром тебя наверняка объявят НВСО[4].
Иногда за руль садился кто-нибудь из нас — когда водителю надоедало выслушивать наши приказы «поднажать». Тогда мы почти летели — 145, а то и 150 километров в час — в общем, с той скоростью, которую можно достичь, вжав педаль газа в пол.
На вокзал Юнион в Вашингтоне мы обычно прибывали около полуночи, выехав из Нью-Ривер около шести часов вечера. Поезда в Нью-Йорк всегда были переполнены. Каждый вагон непременно имел техасца или бедняка южанина с банджо и насморочным голосом, а также свою квоту пьяных, отсыпающихся на сиденьях или прямо на полу, бесчувственных, как половые тряпки. Мы переступали через них, прокладывая себе путь в салон-вагон, где собирались пересидеть ночь и отделяющее нас от Нью-Йорка расстояние, пока над лугами Джерси не проползет зеленовато-серый рассвет.
Всю ночь нас сжигало нетерпение, залить которое удавалось только виски.
Мы и есть не могли. В один из таких коротких «залетных» визитов отец отвел меня в известный английский ресторан, расположенный в деловой части города, где подавали рыбу и дичь. Я долго возил по тарелке половинку жареного фазана, но проглотить сумел только маленький кусочек, причем так и не понял, вкусно это или нет. Зато пиво хлебал стакан за стаканом. Этот недоеденный фазан часто вспоминался мне ДВА мя месяцами позже на Гуадалканале, когда живот громко урчал от голода.
Все мы находились в состоянии нетерпеливого ожидания. Мы были взбудоражены и уже не могли расслабиться. Думать, а тем более заниматься самоанализом в те дни было невозможно. Мы редко говорили о войне. Только если это касалось лично нас, но никогда абстрактно. Этика Гитлера, уничтожение евреев, желтая гибель — все это было для обсуждения на страницах газет.
Мы жили ради острых ощущений — но только не ради ощущений, связанных с войной. Нам были жизненно необходимы несущиеся с бешеной скоростью машины, тускло освещенные кафе, выпивка, ускоряющая ток крови по жилам, мягкость щеки и гладкая, шелковая кожа женской ножки.
Ничему не позволялось длиться долго. Все должно было моментально меняться. Нам нужна была действительность, а не возможность в перспективе. Мы не могли оставаться в покое — только в движении, только в переменах. Мы были как спасающиеся бегством тени, все время куда-то летящие, лишенные телесной оболочки фантомы, обреченные люди, души в аду.
Вскоре 62-часовые увольнения закончились. В середине мая 1942 года я побывал дома в последний раз. Мне предстояло уйти от семьи более чем на три года.
5-й полк морской пехоты отбыл раньше, чем мы. Он ушел ночью. Проснувшись, мы обнаружили пустую площадь, причем чисто убранную, словно там никогда никого и не было (только 35 сотен молодых парней). На месте, где еще вчера было многолюдно, не осталось даже сигаретного окурка или пустой банки из-под пива.
Чисто.
Мой 1-й полк последовал за 5-м через несколько недель. Мы тщательно упаковали личные вещи. Все вещмешки были промаркированы и погружены на грузовики. Свой я увидел, только уже вернувшись после войны в Штаты. С тех пор — за исключением краткой паузы в Австралии — нам предстояло жить совсем другой жизнью и обходиться минимумом, вмещавшимся в ранец размером с футляр для портативной пишущей машинки.
У нас был приказ иметь при себе только оружие и строго ограниченное число личных вещей. Особенно подчеркивалось: никакого спиртного. А днем раньше я сумел выбраться в Джэксонвилл, где опустошил свои карманы, приобретя две пинты виски.
Две плоские бутылки лежали в моем ранце — они приятно подталкивали меня в спину, когда я забирался в поезд. Мы их прикончили той же ночью, когда проводник, приготовив постели, ушел и пульмановский вагон погрузился в темноту. Да-да, мы ехали в пульмановском вагоне и у нас был проводник. Обедали мы в вагоне-ресторане, а ночью проводник снабдил нас сэндвичами с индейкой. Это был замечательный способ ехать на войну, совсем как у русского аристократа в «Воине и мире», который прибыл на фронт в изящной карете, а пока он наблюдал за ходом Бородинского сражения с вершины холма, слуга потчевал его чаем из серебряного самовара.
У нас был забавный проводник. Ему очень нравилось дразнить техасца, недавно прибывшего в наш взвод. Однажды он услышал, как техасец в очередной раз начал хвастаться, и вмешался.