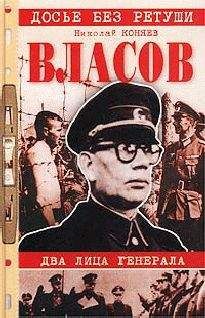Мы были одного мнения, что советская система, под диктатурой Сталина, в решительный момент обнаружила свою непрочность. Мы были свидетелями ее распада. Мы видели, что достаточно было внешнего толчка, чтобы разрушить структуру властвования, основанного на терроре. Летаргия советских граждан кончалась, когда обрывалась связь с начальством.
По окончании гражданской войны было еще много восстаний против советской власти. Все они были задушены. Теперь представлялась возможность, наконец обещавшая успех.
Шла нераспознанная еще тогда нами "русская народная революция" (о которой я уже говорил), движимая волевыми импульсами отдельных людей, слагавшимися в миллионы импульсов. Организованного движения сопротивления по ту сторону фронта не могло возникнуть, так как все попытки сопротивления захлебывались в крови. Но и здесь, по нашу сторону фронта, по воле нацистов не создалось организованного движения, к которому освобожденные от советской власти люди могли бы примкнуть.
Была непреодолимая тяга к свободе миллионов людей. И говорить о "коллаборации с Гитлером" и "измене" просто неверно. Это - ложь, и остается ложью. Если уж мы, немцы, не знали о гитлеровских целях войны, то как могли знать их русские? Они ведь обращались к немцам, которые, по их мнению, хотели освободить Россию от сталинской тирании.
Советская пропаганда продолжает обвинять людей, живших на оккупированных в 1941 году территориях в "измене родине" и в "коллаборации" с национал-социалистическим режимом. Эти утверждения абсурдны. В начале войны, повторяю, население ничего не подозревало о подлинных целях нацистов. Картина должна была измениться и действительно менялась, по мере того как население становилось жертвой преступных и глупых мероприятий нацистского политического руководства.
В связи с этим я не могу отказать себе в ссылке на то, что общественность США и Великобритании, ни в коем случае не настроенная прокоммунистически, не обвиняла же Уинстона Черчилля и Франклина Д. Рузвельта в "коллаборации со Сталиным".
Проблематика переплетения моральных и политических принципов так же стара, как история человечества. Несправедливо и бесполезно выносить огульные приговоры, а трафаретные представления о тогдашнем положении применять одинаково по ту и по другую сторону германского фронта.
В наших дискуссиях в Смоленске мы пришли к выводу, что эта война не может быть выиграна на полях сражений, но она может быть окончена при честном сотрудничестве с освобожденным населением Советского Союза. И нас обнадеживало, что эта мысль постепенно все больше распространялась в германском офицерском корпусе. В конце концов, политические предпосылки для такого сотрудничества практически могли быть созданы только немцами, а не русскими.
Теперь, однако, после шести месяцев -войны, мы должны были признать, что эти предпосылки созданы не были. Наоборот, то, что сперва, через завесу разрозненных "директив" и "установок", с трудом можно было распознать как цели войны, становились все очевиднее: захват, закабаление, грабеж.
Мы утешали себя мыслью, что поражение под Москвой отрезвит нацистское руководство. Мы хотели надеяться, что фельдмаршалы Браухич, Бок, Рунштедт, Лееб и генералы Гудериан, граф Шпоннек и другие - столь произвольно снятые с постов Гитлером - найдут средства провести свои взгляды в жизнь. Для стратега уже в неудаче-и поражение, и стимул для пересмотра планов и исправления ошибок. Мы считали, что это должно было подействовать и на человека, который держал в своих руках и стратегию, и политику.
А если, несмотря на поражение под Москвой, идеологические фантазии одержат верх над голосом разума? Тогда можно лишь сказать, что это было бы сумасшествием. Бывает, правда, что и сумасшествие излечивается. В противном случае, пациента следует держать в психиатрической больнице.
- Имеете вы при этом в виду фюрера? - спросил молодой балтийский немец.
- Я никогда не называл Гитлера, - ответил Сиверс, - я говорил о сумасшедших.
* * *
С наступлением оттепели озёра и реки вновь стали препятствием для Красной армии. Вновь заработали нормально железные дороги, а с этим улучшилось и снабжение; можно было подвезти свежие дивизии. Но, с другой стороны, с весны 1942 года начали действовать партизанские отряды, доставлявшие как армии, так и гражданским властям много забот.
"Партизанские бесчинства" не были, конечно, просто проявлением беспорядка в тыловых областях, как сперва думали немцы. Напротив, это было политическое движение сопротивления, которое невозможно было взять под контроль лишь силами полиции. Вначале стихийное, а в большой степени и антикоммунистически направленное партизанское антинемецкое движение Сталину удалось постепенно, путем десантных групп, подчинить своему влиянию и, позднее, полностью взять под контроль. Базой для этого было пробуждение патриотических чувств и провозглашение Великой отечественной войны. Партизанское антинемецкое движение стало возрождением общенародной войны во время нашествия Наполеона, так мастерски описанной Толстым.
Генералов Красной армии награждали вновь учрежденными орденами Кутузова и Суворова; эти имена возбуждали в каждом русском воспоминания о героической борьбе предков. Мужчин и женщин, стариков и молодежь, членов партии и бывших царских офицеров - всех призывали к борьбе за Родину, за Россию, за стоящую под угрозой Москву.
Во вновь открытых церквях духовенство молилось о победе русского оружия. Священники, еще несколько месяцев назад подвергавшиеся гонениям, призывали народ нести пожертвования на армию.
Полученные позднее сообщения утверждали, что в критические дни казавшегося неудержимым германского наступления в Кремле обсуждалась мысль о временном роспуске ненавистных крестьянству колхозов в некоторых областях, близких к фронту. Это должно было отнять у немцев часть их возможных политических козырей.
Из штаба группы армий "Центр" в ОКХ
В начале 1942 года, после обморожения правой ноги, я получил короткий отпуск для восстановления здоровья. Отпуск я использовал, чтобы в Восточном министерстве, а также в кругах ведущих промышленников (фирмы которых я представлял в Прибалтике), вести кампанию за новую политику в России. В Восточном министерстве я вынес впечатление, что ни мои собеседники (д-р Бройтигам, д-р, фон Кнюпфер и др.), ни сам Розенберг не могут ничего сделать в желаемом направлении.
Ингемар Берндт из Министерства пропаганды, ссылаясь на мой меморандум, пригласил меня для разговора, который продлился более двух часов. Мне казалось, что я привлек его на сторону "нашего дела". Берндт обещал добиваться у Геббельса и других его друзей "изменения курса". Он упомянул даже, что, может быть, ему удастся поговорить и лично с Гитлером. Я не был знаком с иерархией нацистов, и этот разговор вдохнул в меня новые надежды.