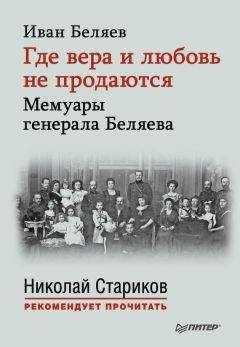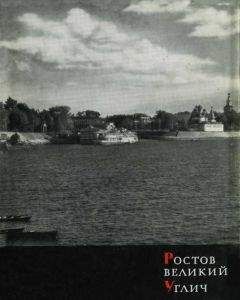Давление общественного мнения нарастало и вскоре стало невыносимым. Ирка ждал. Чего мог ждать от судьбы мальчик, носивший девичье имя?
В конце концов, всякому малодушию есть предел. Я сдался, развернулся и неловко ткнул его кулаком в щеку.
Ирка заревел и, смешивая сопли со слезами, пошел домой. Публика, довольная гладиаторским представлением, разбрелась. Герой тщетно пробовал услышать в душе медь победных фанфар. Ничего, кроме неясного чувства отвращения к самому себе. Насильственное прикосновение моего кулака к невинному Иркиному лицу имело для меня роковые последствия: до сих пор не могу вообразить себя наносящим другому человеку удар по лицу — даже если лицо этого просит и мне очень хочется.
Надо было как‑то избавиться от мерзкого осадка — и я отправился еще погулять. Когда стемнело, я вернулся домой. И вот тут…
Оказывается, Ирка дома нажаловался на меня, а его отец, спустившись тремя этажами ниже, рассказал обо всем моему. Как папа Гоникман построил жалобу, установить невозможно. Но мой отец был вне себя. Не помню, чтобы я видел его когда- нибудь в таком гневе и отчаянии.
— Директорский сынок! — кричал он страшным голосом. — Директорский сынок избивает детей его сотрудников и подчиненных! Тебе, думаешь, все можно?! Позор! Что я теперь должен делать?!
Я хотел объяснить, что мне такое не могло даже в голову прийти, что все было совсем не так. Конечно, не надо было, ох, не надо было, но при чем тут сынок, я даже не очень понимаю, что это значит «директор» и чем он отличается от Гоникмана. Но меня не слушали. Самое ужасное и непостижимое было то, что отец кричал и плакал вместе.
Мне тогда, я думаю, было лет семь, не больше. Понятие «директор», этот непроницаемый прежде для сознания атрибут Моисея Борисовича, в некотором отношении стало для меня яснее и было наконец соотнесено с занятиями отца. Причина его крайнего — до слез — расстройства стала проясняться куда позднее. Создатель и ведущий уникальной школы, собравший единомышленников, с которыми вместе формировал — из сотен обездоленных и затерянных в трещинах исторических разломов еврейских детей — достойных и вооруженных к жизни людей, он переживал мой поступок как педагогическое поражение, как крах собственных моральных принципов, как несмываемый позор.
* * * * * *
Впрочем, были вещи еще более опасные для его дела и идей, чем мое бессознательное и непреднамеренное хамство. У вечного, как‘мне казалось, единства «папа — Еврабмол» было временное ограничение, начало и конец.
Конец я видел своими глазами, не вполне понимая, что происходит. Странно, не понимал ведь, меня в то время очень охраняли от травмирующих знаний, но из сотен и сотен дней детства один остался в памяти с преувеличенной оптической внятностью — как батальная диорама, созданная мастерами Студии военных художников имени Грекова: дали написаны на холсте, а передний, главный, план исполнен в трех измерениях, цветной, совсем как настоящий.
Отец в тот день был дома. К нему с утра и до вечера ходили люди, которых я хорошо знал, — его друзья и сотрудники. Они уговаривали его что‑то сделать или, напротив, чего‑то не делать. Он не соглашался.
Его рабочий стол стоял тогда в большой комнате, «кабинете», под углом к стене, стул спиной к кафельной печке. Посетители сидели по другую сторону. Отец был взволнован до крайности и по большей части стоял. Каждому он повторял один и тот же довод, наглядно моделируемый.
— Сначала придет кто‑нибудь и скажет мне: поставь этот стул сюда! — и он ставил стул к стенке. — Потом придет другой и велит поставить стул сюда! — и он переставлял стул к печке. — Затем является третий и распоряжается поставить его сюда… — Стул перемещался на новое место…
Каждому, даже мне, становилось ясно, что так никто на стуле усидеть не может.
Это был день, когда отец решил оставить Еврабмол. Творческая магма, освобожденная вовсе не Октябрем, как принято было считать, а Февралем, и получавшая свои формы от послереволюционного интеллигентского идеализма, энтузиазма и самопожертвования, к началу тридцатых стала немыслимой, невозможной, враждебной. В хорошо расчерченной амбарной книге советского образования для необычной и по одному этому уже вредной школы тогда не было — и не могло быть — подходящей графы. Демонстративная перестановка стула только частично, плоско и бесцветно, демонстрировала внешнюю сторону событий, ибо каждое новое переустройство Еврабмола сопряжено было с варварским искажением его замысла, опыта, его сути. Уход отца был, помимо всего, символическим жестом, указанием на то, что идея убита.
Заведение осталось как пустая и скособоченная форма. Вскоре оно получило новое имя — Школа — завод имени С. М. Кирова.
После своего ухода в 1932 году отец передал богатейший архив Еврабмола в музей имени Менделе Мойхер Сфорима. Был такой музей в Одессе. Гитлеровцы сожгли музей вместе с его коллекциями.
Осталась только память создателей школы и ее воспитанников. Это условное разделение: Еврабмол был их общим творением. Но целое оставалось в памяти одного, первого.
* * *
Получив ананьевское свидетельство, отец несколько лет учительствовал в разных местах пестрого юга — в Молдавии, в Каменец — Подольске, в Елисаветграде, в Севастополе, обучая своих единоверцев, как было ему позволено. В начале Первой мировой войны его мобилизовали. Одно время он служил в госпитальной лаборатории, но вскоре был отпущен с белым билетом из‑за очень сильной близорукости.
Позднее семья перебралась в Одессу.
Советы трудно овладевали югом Украины. Цвета власти в Одессе менялись то и дело; случалось, государственная граница делила город пополам. В конце концов судьба, как известно, улыбнулась большевикам.
Один из высших иерархов православной церкви того времени полагал, что таким способом небо покарало Россию. Это нам за грехи наши, говорил он. Возможно. В таких делах я воздерживаюсь от спора, хотя принцип коллективной ответственности и коллективной вины вызывает у меня возражения. Во всяком случае, если целью наказания было нравственное преображение погрязшей во грехе страны, мера оказалась неэффективной.
Воспитание пошло другим путем.
Среди наказанных войной, революцией, гражданской войной грешников особый класс составили дети. В 1919 году отец был среди наиболее деятельных учителей и принял на себя труднейшую миссию — заботу о бесприютных, бездомных, уличных и просто неприкаянных подростках.
Еврейские дети были класс в классе. Родимое слово «погром» вошло во многие иностранные языки, оно есть и в Оксфордском иллюстрированном словаре английского языка, где сказано: