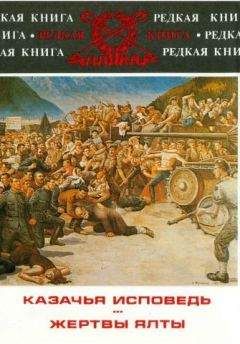Приехали мы как раз к обеду. За обеденным столом, смотря на белую скатерть, тарелки, на приветливые, улыбающиеся лица родных, видя весь этот привычный и милый уют, я вспомнил фронт, страшную дорогу, что осталась за мною, и вдруг судорожно разрыдался. Наши переполошились. А дед, поглаживая свои седые усы, пытливо посмотрел на меня и тихо сказал:
— Много видел? Ничего — времена такие. Ничего, отдохнешь — успокоишься, — и добавил: — Дома-то стены помогают.
Но, оказалось, дед ошибался. Времена были такие, что и домашние стены перестали помогать. Скоро пришлось в этом всем нам убедиться. Шла коренная ломка быта, векового уклада, прочно сложившейся жизни, гибли не только семьи, но вихрь все нарастающей революции с корнем вырывал целые роды и племена.
После обеда за обычным чаем, который дед пил очень крепкий и всегда без сахара, пошла беседа о жизни в станице, новостях, родне. Я кое-что буркнул о тяжелой дороге. Дед, вытирая вспотевший лоб платком, — он пил уже пятый стакан, — исподлобья посмотрев на меня, спросил:
— Ну что? Как фронт?
— Фронта уже нет, дедушка… Боюсь, что скоро немцы хлынут и на Украину.
— Да ты что, шутишь? А как же правительство? Что же это? К чему же четыре года вшей в окопах кормили? Ведь немцы-то должны бы уж на ладан дышать. А? — Потом, помолчав, добавил: — Ведь там у них, говорят, башковитые люди сидят. Какие-то Ленин, Троцкий… Один-то из них будто из Швейцарии приехал. Ну, а туда глупые люди не ехали…
Я ничего не мог ответить деду на его пытливые вопросы — вопросы, которые тогда интересовали всю, хоть сколько-нибудь мыслящую, Россию. Я сам был политически совершенно безграмотен и знал только Керенского, Пуришкевича, Чхеидзе да разве Родзянко, не разбираясь даже, к какой партии он принадлежит. Дед помолчал, склонил голову и, трогая сивый ус, заметил:
— Эх, надо бы было добить немца вчистую. Не даст он нам покоя. А теперь вот жди. Не будет от этого добра…
Из разговоров я узнал, что в нашем Усть-Медведицком и соседнем Хоперском округах установлена Советская власть, что в Клетской комиссаром какой-то хорунжий. В нашей станице уже тоже был Совет, но, говоря о нем, дед хмуро ворчал:
— Удивляюсь, на такое дело самых ледащих казачишек посадили. Возьми Черячукиных — двум свиньям корму не разделят. Всю жизнь лодырями прожили. Недоставало посадить туда Максима Пристанскова — вот бы делов натворил!
Пристансков был атаманец, с коломенскую версту ростом, несусветно дурной, как, впрочем, почти все атаманцы. В Усть-Медведице вместо окружного атамана полковника Рудакова в окружном правлении заседал Совет. Председателем Совета был крестник моей бабки, сотник Семен Рожков. В Клетской же, наряду с братьями Черячукиными, верховодил тоже крестник моей бабки балтийский матрос, мордастый великан, сын кровельщика Алешка Сазонов. В станице было спокойно. С новой властью сжились, и ничто, казалось, не предвещало близкой катастрофы. По округу, правда, шли глухие и совершенно неопределенные слухи, что где-то на юге появился Корнилов и будто бы около него группируется офицерская и студенческая молодежь, спасающаяся от самосудов, которые якобы идут по всей России. Случайно пришла весть о разгоне войсковым старшиной Голубовым Казачьего Круга — Донского парламента, но эта весть как-то не произвела впечатления ни в станице, ни в округе и не всколыхнула казаков. Все были рады, что война окончилась и жизнь входит в нормальные берега. В станицу пришел с фронта 34-й Донской казачий полк под командой полковника Воинова. Врач полка Николай Аристархович Алфеев, окончивший два факультета, стал постоянным гостем в нашем доме и впоследствии женился на моей старшей сестре, чопорной бестужевке Анфисе. Директором местной гимназии назначили непрезентабельного и никудышнего учителишку начальной школы Капитошку, как его все в станице называли, Крапивина. Молодежь часто собиралась в школе, разучивала «Интернационал» и ставила любительские спектакли.
Как-то весною я отправился в окружную станицу регистрироваться и явился к председателю окружного исполкома Семену Рожкову для того, чтобы не возникли никакие недоразумения. Бывшие офицеры были на учете. Не найдя его в правлении, я пошел к нему в Клины, гористую часть станицы, где он жил в своем хорошем доме со старухой матерью. В Клинах стояла чудесная Нагорная церковь, выстроенная в древнерусском стиле. Говорили, что там особенно хороши и торжественны были пасхальные богослужения. Теперь этот храм не существует. Подойдя к дому Рожкова, я увидел на высоком крыльце его сухопарую мать. Узнав меня, она приветливо спросила:
— Ты чаво, Коля, к Семе? Он сейчас спит — ночью куда-то ездил…
— Я, теточка, регистрироваться пришел. Из-за этого из Клетской приехал.
— Да это ничаво, — ласково ответила старуха. — Иди домой, я ему скажу. Можешь считать себя разжалованным, — а потом добавила: — Завтря приди к нему в правлению — он там атаманствуеть.
На второй день, войдя в большой зал Совета, я попал будто во встревоженный улей. Сизый от махорки воздух был сперт — хоть шашкой руби. Казаки входили и выходили, матерясь и размахивая руками. Кто-то в углу примостился на подоконнике и резался в карты. На столе у Семена стопка каких-то бумаг, по правую руку наган, слева две ручные гранаты. Ну, думаю, обстановка серьезная. И Семена было не узнать. Это был уже не прежний щупленький реалист, а человек, чувствующий себя на своем месте, отягченный властью и знающий себе цену. Лицо суровое, неумолимое.
Сажусь в сторонке. Перед Рожковым на подоконнике, вольготно перебросив ногу через колено, пристроился, какой-то нагловато улыбающийся человек лет тридцати. Я, вероятно, прервал очень бурное объяснение. Семен, сжав кулак, твердо бросает сидящему на подоконнике:
— Ну, смотри, сотник, смотри, чтобы не сыграть в ящик! Собственной рукой застрелю, как собаку, если будешь мутить казаков по хуторам!
Сотник криво усмехается, встает и, хрустнув пальцами, бесшабашно бросает:
— А ты не всякому слуху верь. Испугал… Не таких видали! — и, хлопнув дверью, выходит.
Переговорив о своих делах с Рожковым, я собрался уходить. Прощаясь, Семен спросил:
— Ты тут как? На коне?
— Нет, с оказией приехал.
— Так вот смотри — завтра еду по хуторам, по округу. Шевелиться кое-где, гады, начинают. Видел, вот сейчас ушел. Но мы им голову свернем… Еду через Клетскую. Возьму тебя с собой. Место есть: по-атамански еду — тройкой!
По Дону шел апрель, наполненный неповторимым запахом проснувшейся степи. На душе, как всегда весной, было сладостно, легко…