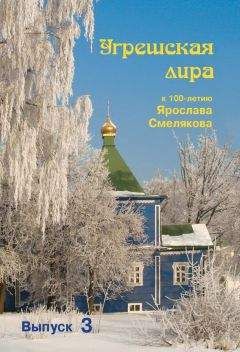– Что это я всё о её глазах? Твои глаза прекраснее, Валень-ка. Хочешь, я тебе прочту новые стихи? Они, правда, пока не окончены.
– Прочти, Ярочка. Я вся внимание, – оживилась она.
Смеляков открыл блокнот с черновиком стихотворения «Лирическое отступление». Он не хотел прежде времени показывать его любимой женщине, собираясь сначала опубликовать в журнале и преподнести номер ей. Так вышло бы эффектнее. Но теперь, чтобы успокоить её, стал декламировать проникновенным баритоном:
Валентиной
Климовичи дочку назвали.
Это имя мне дорого —
символ любви.
Валентина Аркадьевна.
Валенька.
Валя.
Как поют,
как сияют
твои соловьи!
Читая, Смеляков видел, как теплеют Вапины глаза, светлеет улыбка.
– Дальше у меня несколько строф совсем в черновике, – он показал Вале исчёрканные странички блокнота, – а вот эти вроде уже готовы:
Если б звонкую силу,
что даже поныне
мне любовь
вдохновенно и щедро даёт,
я занёс бы
в бесплодную сушу пустыни
или вынес
на мертвенный царственный лёд,
расцвели бы деревья,
светясь на просторе,
и во имя моей,
Валентина,
любви
рокотало бы
тёплое синее море,
пели в рощах вечерних
одни соловьи.
Как ты можешь казаться
чужой,
равнодушной?
Неужели
забавою было твоей
всё, что жгло моё сердце,
коверкало душу,
всё, что стало
счастливою мукой моей?
Как-никак —
а тебя развенчать не посмею.
Что ни что —
а тебя позабыть не смогу.
Я себя не жалел,
а тебя пожалею.
Я себя не сберёг,
а тебя сберегу.
Ярочка, спасибо. Так красиво и нежно! Прямо сердце за мирает, – растрогалась Валя.
Она с разрешения Ярослава полистала его блокнот и наткнулась на черновик другого стихотворения:
– «Давным-давно, ещё до появленья…» – стала она читать, но дальше из-за исправлений разобрать не смогла.
– Эти стихи тоже о тебе, но они совсем сырые, я даже ничего не перебелял, – смутился Смеляков.
– Ну прочти хоть несколько строк. Ну пожалуйста.
– Ладно, слушай:
Давным-давно, ещё до появленья,
я знал тебя, любил тебя и ждал.
Я выдумал тебя, моё стремленье,
моя печаль, мой верный идеал.
И ты пришла, заслышав ожиданье,
узнав, что я заранее влюблён,
как детские идут воспоминанья
из глубины покинутых времён.
– А дальше только наброски, – закончил Смеляков.
– Не могу надивиться, как это у тебя так здорово стихи получаются? – восхитилась Валентина. – Я бы сама ни строчки не смогла сочинить. А твои стихи мне очень легко запомнить. Какое чудное стихотворение у тебя о матери! Ты будто и о моей маме написал:
Добра моя мать. Добра, сердечна.
Приди к ней – увенчанный и увечный —
делиться удачей, печаль скрывать —
чайник согреет, обед поставит,
выслушает, ночевать оставит:
сама – на сундук, а гостям – кровать.
Старенькая. Ведь видала виды,
знала обманы, хулу, обиды.
Но не пошло ей ученье впрок.
Окна погасли. Фонарь погашен.
Только до позднего в комнате нашей
теплится радостный огонёк…
Настал черёд растрогаться Ярославу. Она читала просто и сердечно, без всякой театральности, и слушать её певучий грудной голос было невыразимо приятно – до мурашек по спине. И в эту ночь они были особенно нежны друг с другом.
Маша Мамонова отыграла в апреле-мае все намеченные спектакли с большим успехом. Вокруг неё после отъезда Андрея снова роились поклонники и ухажёры, а она всё грустила и никому не подавала надежды. Однажды Смеляков, выходя из редакции, невольно услышал её разговор с подругами:
– Маш, ну что у тебя глаза на мокром месте. Уехал и из сер дца вон. Не мучь себя. Других парней полно.
– И правда, Маш, забудь этого Андрюху. Больно мнит о себе. Недостоин он тебя.
– Не могу я, девчонки. И хотела бы забыть его, да не выходит, – отвечала им Мария со слезами в голосе.
Причина её горя в июне стала видна всем: она оказалась на пятом месяце беременности. Ярослав не был злопамятен и жалел Машу. Дома родители девушку простили, но старухи из окрестных деревень, ходившие в коммуну кто за покупками, кто за внуками в детсад, шептались за её спиной, показывали на неё пальцем. Всех ухажёров как ветром сдуло, кроме одного, которого она раньше игнорировала. Это сапожник Проворов, парень невидный, но искусный мастер и всегда при деньгах. Он дарил Мамоновой цветы и носил гостинцы, несмотря на её интересное положение. И сплетниц умел приструнить. В коммуне он не состоял и нецензурных выражений не стеснялся: «Цыц, такие разэтакие! Заткнитесь! Сами-то по молодости лучше, что ль, были? А ещё в Беседы в церковь ходят! Что там поп говорит? Не судите да не судимы будете. А вы, так вас этак, только и знаете, что всех судить-рядить».
Бабки при виде сапожника умолкали, побаиваясь, что он перестанет шить и чинить им обувь: другого такого хорошего мастера в округе не было. Постепенно сплетни сошли на нет. Осенью Мария родила сына Рому. Проворов продолжал свои ухаживания за нею, и теперь она принимала их с благодарностью.
Жизнь Ярослава и Валентины в 38-м году шла по накатанной колее. Почти всё время у Смелякова отнимала работа в газете, ведь необходимо было освещать многообразие происходивших в коммуне событий.
С сентября поселение коммуны стало официально именоваться Дзержинским рабочим посёлком. Однако его ещё долго называли коммуной. Новое просторечное название Дзержинка прижилось не сразу. В добавление к бюстам и памятникам Ленину, Сталину и Горькому здесь открыли памятник Дзержинскому, заложенный в сквере у верхнего пруда осенью 37-го года. В июне 38-го первые дипломы инженеров вручили во втузе при электрозаводе.
Многих знакомых коммунаров выпускали из коммуны, выдавали им паспорта. Некоторые из них находили себе работу в других городах и уезжали из посёлка. Среди них и Лёнька Пушковский. Работать на музфабрике ему стало неинтересно. Искусных старых мастеров репрессировали, и фабрика перестала выпускать уникальные инструменты, переключившись на ширпотреб.