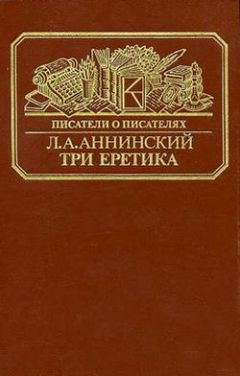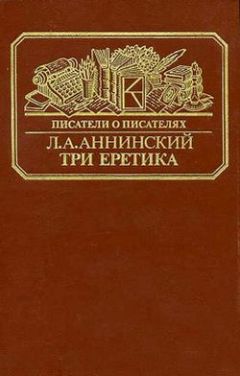Студент последовал совету и выписался в Чехова. Ему мы обязаны мгновенной зарисовкой Лескова 1883 года: «Этот человек похож на изящного француза и в то же время на попа–расстригу». Да и вся вышеприведенная запись замечательно передает облик Лескова в те годы: юмор, безудерж, избыток сил, готовый пойти через край, и ощущение края, близкого, отбивающего дух в мистику.
Лесков в 80–е годы — как определил эту пору в его жизни сын и биограф, — «на пути к маститости». Для российского художника это означает целую повязь сверхлитературных обязанностей, которые цепляет на творца изящной словесности стонущая действительность. Лесков, по темпераменту своему, никогда и не уклонялся от того, что зовется у нас гражданским служением; теперь же он неустанно ведет бесконечные брани и волочит добровольно взятые на себя обязанности, участвуя во всевозможных либерально–филантропических начинаниях, пристраивая несчастных, собирая деньги для осиротевших и восставая против властных и неправых. Притом если в либеральные годы гражданственное положение Лескова было осложнено его разрывом с радикалами, то в России Победоносцева ситуация «сама» поставила все на место, и тяжкая, безнадежная борьба Лескова с чиновной иерархией его собственного служебного «присутствия» — Министерства народного просвещения — доводит его до края. Тяжкая, как вопль, мысль о России спрятана под полушутливой «мистикой»:
«Не могу себе простить, что я никогда не усвоил себе французского языка в той мере, чтобы на нем работать как на родном. Я бы часа не остался в России и навсегда. Боюсь, что ее можно совсем возненавидеть со всеми ее нигилистами и охранителями. Нет ни умов, ни характеров и ни тени достоинства… С чем же идти в жизнь этому стаду, и вдобавок еще самомнящему стаду?…»
И в том же августе 1883 года:
«Родину–то ведь любил, желал ее видеть ближе к добру, к свету познания и к правде, а вместо того — либо поганое нигилистничанье, либо пошлое пяченье назад, „домой“, то есть в допетровскую дурость и кривду. Как с этим „бодриться“? Одно средство — презирать и ненавидеть эту родину, а быть философом и холодным человеком… Но до этого без мук не дойдешь. И на небе ни просвета, везде minimum мысли. Все истинно честное и благородное сникло: оно вредно и отстраняется, — люди, достойные одного презрения, идут в гору… Бедная родина! С кем она встретит испытания, если они суждены ей?»
Этот–то огонь и прикрыт повадками «попа–расстриги» и манерами «изящного француза». Тяжек крест изящной словесности на Руси. Особенно в ночные времена.
По обыкновению, принятому в этой книге, я попытаюсь понять моего героя на очередном этапе через один какой–то литературный эпизод, в наибольшей степени раскрывающий ход драмы. В восьмидесятые годы Лесков работает бешено, но и неровно; шедевры тонут в ворохах журнальной поденщины; крупные романы не идут; что из идущего останется вечности, — неясно.
Ясно это — из будущего, то есть из нашего настоящего, которое постепенно все ставит на свои места.
В том же 1883 году, весной, Лесков пишет рассказ, которому суждено войти в национальную сокровищницу русской прозы. Рассказ публикуется в малозаметном журнальчике и проходит без отклика. Посвящен он — во всяком случае, по внешнему поводу — теме «художника». «У нас» и у других народов. Словосочетание, взятое Лесковым в название рассказа (и, несомненно, живущее на слуху у любого современного русского читателя), придает этой теме странное и чисто лесковское звучание: словно бы проныривает изящество сквозь тупость и мрак «расстриженной», дикой, осаженной в «кривду» реальности.
Рассказ называется: «Тупейный художник».
Все знают этот рассказ, но никто ничего не знает об этом рассказе.
История крепостного парикмахера, «тупейного художника», бежавшего со своей возлюбленной от злого помещика, живет в нашем читательском сознании с детства. Она поселяется где–то рядом с тургеневским «Муму», толстовским «Филиппком» и баснями дедушки Крылова. Она, эта история, несменяемо лежит в фундаменте начитанности вот уже пяти поколений, — и вместе с тем мы не знаем, как писался этот рассказ, откуда брал и как преображал автор свой материал, что при этом чувствовал. В переписке Лескова и в его публицистике, где можно найти множество разнообразных авторских признаний касательно его любимых произведений, где есть целые защитительные речи по поводу «Некуда», пронзительные признания по поводу «Леди Макбет…», любовно сохраненные подробности из истории «Соборян», «Левши» и «Запечатленного ангела», — «Тупейный художник» обойден молчанием. Разумеется, для окончательного об этом суждения нужно, как минимум, полное собрание сочинений, но ведь и по трем сотням опубликованных писем можно кое о чем судить: сравнительно с другими шедеврами, «Тупейный художник»… то ли забыт, то ли пренебрежен, то ли прикрыт тайной: только то о нем и известно, что в нем самом написано. Рассказ старой няни о крепостном театре времен ее молодости. Некоторые подробности об этом самом театре — знаменитом театре графов Каменских. Ну, еще дата написания, точная, выставленная под заглавием «Светлой памяти благословенного дня 19–го февраля 1861 года», — стало быть, ровно двадцать два года спустя написано: в феврале 1883–го. Вот все.
В этом кругу и крутятся комментаторы. Единственное, что могут добавить к рассказанному Лесковым, — это что театр Каменских за 37 лет до Лескова был описан у Герцена в «Сороке–воровке». В остальном в качестве фактической основы произведения литературоведы вот уж полвека пересказывают само лесковское произведение, да с такой доверчивостью, что сын писателя, Андрей Лесков, вынужден был как–то их несколько охладить, засвидетельствовав (в примечаниях к однотомнику 1945 года), что старая Любовь Онисимовна могла и не нянчить детей в доме Лесковых: реальность и предание в рассказе перемешаны; что там «взаправду», а что «миром сложено», — уже и не различишь.
Фактическая сторона дела постепенно все более подтверждается.
Литературовед Николай Чернов, автор книги о писателях–орловцах, рассказывал мне, что он разыскал в одном орловском архиве списки прихожан, крестившихся во время оно в орловской церкви, — там оказалось имя Любовь Анисимовна.
В опубликованных в 87 томе «Литературного наследства» набросках к роману «Соколий перелет», начатому и оставленному Лесковым в самом начале 80–х годов, действует «нянька Любовь Анисимовна… из отставных актрис Каменского театра».
Зная приверженность Лескова к «былям времени», мы можем быть уверены, что в основе «Тупейного художника» лежат… предания о фактах. Дело, однако, в том художественном соотношении, которое найдено здесь фактам и преданиям.