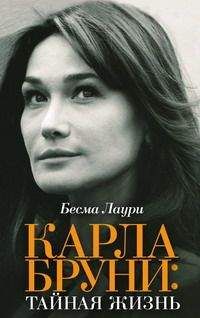Пока Надя бегала оформлять документы в соответствующем управлении ГПУ, я осталась с ним. Осип лежал на постели с застывшим взглядом. Мне было жутковато оставаться с ним вдвоем. Кажется, мы выходили гулять. Я повязывала ему галстук. Он кричал сердито: “Осторожно… рука”» [597] .
На вокзал Мандельштамов провожали Е.Я. Хазин, А.Э. Мандельштам и Э.Г. Герштейн.
В Воронеже Мандельштам постепенно пришел в себя.
Надежда Мандельштам нередко бывала в Москве, привозила стихи Мандельштама, написанные в Воронеже. В квартире в Нащокинском переулке жила мать Надежды Яковлевны, Вера Яковлевна Хазина.
Надо напомнить, что во время ссылки Мандельштам испытал определенный душевный кризис. Об этом уже шла речь в главе, посвященной взаимоотношениям поэта с Яхонтовым и Поповой. Этот надлом выражался, в частности, в чувстве отщепенства (но без убеждения в своей правоте, как на рубеже 1920—1930-х годов), в сознании вины перед народом, чья воля проявлялась, как виделось, в сталинском строительстве новой империи. Стихи Мандельштама, его письма и воспоминания людей, с которыми поэт встречался в Воронеже, говорят о том, что Мандельштам не играл в раскаяние, что он искренне хотел переменить себя, признать «правоту эпохи». Вина и желание «жить, дыша и большевея», диктовали строки воронежских «Стансов» 1935 года, стихотворения «Средь народного шума и спеха…» и ряда других стихов. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и то, что Сталин вмешался в его дело и, собственно, спас ему жизнь. Нет ничего удивительного и невероятного в том, что Мандельштам мог испытывать к Сталину чувство благодарности – скорее всего, так и было (это не означает, что в другие минуты опальный, привязанный к Воронежу поэт не мог думать о вожде с совершенно другими чувствами).
Н.Е. Штемпель. 1930-е
В Воронеже в 1937 году была написана и так называемая «Ода» («Когда б я уголь взял для высшей похвалы…») – ода Сталину. Начиналась эта вещь, может быть, как вымученная, как попытка спастись, переиграть судьбу. Однако рассматривать ее только так было бы, думается, неверно. Мандельштам был, несомненно, увлечен Сталиным (об этом в книге уже шла речь). Позднее, уже после возвращения из Воронежа, Мандельштам сам определил в разговоре с Анной Ахматовой этот настрой: «Я теперь понимаю, что это была болезнь» [598] . Это была болезнь, которой болела вся страна, и заражались даже самые чистые, самые духовно здоровые. «Ода» – не поделка и не подделка, хотя позже Мандельштам и просил воронежскую знакомую Н.Е. Штемпель уничтожить эти стихи (как сообщает Н. Мандельштам) [599] .
Выше шла речь и о том, что наряду с линией капитуляции в мандельштамовских стихах не умолкает и ведется другой мотив – несдающейся свободы и несогласия с «рогатой нечистью», как это именует Надежда Яковлевна.
Возвращение в Москву виделось в Воронеже желанной целью. В воронежских «Стансах» читаем:
И ты, Москва, сестра моя, легка,
Когда встречаешь в самолете брата
До первого трамвайного звонка:
Нежнее моря, путаней салата
Из дерева, стекла и молока…
Первый стих, видимо, отсылает к блоковскому восклицанию: «О, Русь моя! Жена моя!..» (Ю.Л. Фрейдин указал автору книги, что этот стих откликается и на пастернаковское «сестра моя жизнь».) Блоковский (и пастернаковский) подтекст вполне уместен в стихотворении, где Мандельштам говорит о намерении преодолеть свое отщепенство и желании стать одним из тех, кто строит новую Россию – советскую державу: «Но, как в колхоз идет единоличник, / Я в жизнь вхожу – и люди хороши». «Стансы» заявляют если не о примирении с действительностью, то по крайней мере о желании такого примирения.
Но о чем, собственно, идет речь в этих стихах далее? М.Л. Гаспаров предполагает, что данная строфа отражает воспоминание поэта о приезде в Москву по дороге из Чердыни к новому месту ссылки: «И ты, Москва – несколько суток в Москве по пути из Чердыни в Воронеж» [600] . Эта точка зрения может быть обоснована, как нам представляется, в первую очередь тем, что в предыдущей, третьей строфе стихотворения речь идет несомненно о Чердыни. Автор расположил части своего стихотворения именно таким образом – есть все основания согласиться с М.Л. Гаспаровым. В таком случае возможны, видимо, два варианта понимания текста строфы о «сестре» Москве.
Вариант первый . Ссыльный «брат»-поэт возвращается, пусть ненадолго, в Москву, видит на подъезде к городу летящий в небе самолет, олицетворяющий советскую Москву, ее мощь и техническое развитие, – это «Москва… в самолете» встречает его. Однако, с нашей точки зрения, с «Москвой в самолете» не сочетаются последние стихи строфы: «Нежнее моря, путаней салата / Из дерева, стекла и молока» – даже если понять эти слова как описание увиденных из окна вагона московских окраин ранним утром (деревянные дома в тумане). Такое прочтение представляется неверным.
Вариант второй . Поэт видит (представляет себе), как «сестра» Москва встречает «брата», прилетающего к ней «в самолете». «Брат» здесь, конечно, имеет отношение к формуле «свобода, равенство и братство» и синонимичен советскому «товарищ». У советской Москвы все «братья», все товарищи. Мотив «братства» проходит через все стихотворение. «Братьями», в частности, названы в этом же стихотворении страдающие и казнимые антифашисты в гитлеровской Германии: «Я помню все: немецких братьев шеи». (Шея, очевидно, ассоциировалась у Мандельштама с представлением о хрупкости человеческой жизни и обреченностью: ср. «Как венчик, голова висела / На стебле тонком и чужом» – из стихотворения о распятии «Неумолимые слова…» (1910). Таким образом, немецкие «братья» в «Стансах» неожиданно напоминают «тонкошеих вождей» из недавнего антисталинского стихотворения.) «…В традиции гражданского стихотворства и эпиграммы, – пишет Е.А. Тоддес, – тонкая шея весьма социально значима и ассоциируется, во-первых, с угодничеством (гнуть шею перед сильным), во-вторых, с возможной расправой властителя над подданным (намек на веревку – ср. “Пеньковые речи ловлю…” в “Квартире…”)» [601] .
Но кто этот «брат»? Советский летчик или, может быть, немецкий эмигрант, беглец из нацистского ада – самолет несет его к спасительнице Москве. В слове «сестра» в «Стансах» просвечивает и значение «сестра милосердия» – примем во внимание то, что сказано в «Стансах» о «немецких братьях» и «садовнике и палаче» Гитлере. Здесь, думается, мы слышим снова мотив, прозвучавший в стихотворении, которое от «Стансов» также отделяет небольшой временной промежуток, – «Мастерица виноватых взоров…»: о лучшем в женщине говорится: «Наш обычай сестринский таков…» – и ниже: «гибнущим подмога». Основания для предположения, что встречаемый Москвой «брат» «в самолете» может быть немецким эмигрантом, имеются: в наиболее ранней из известных редакций «Стансов» стихи о прилете в Москву стоят не после строфы о Чердыни, а именно вслед за упоминанием немецких «братьев»: