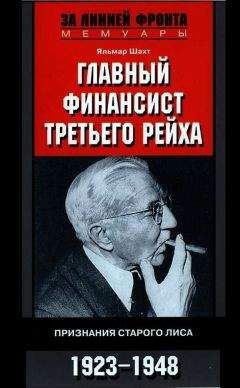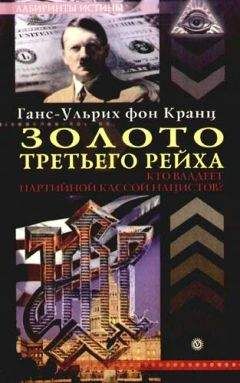Итогом моего выступления было как раз то, чего мы ожидали. Американский обвинитель Джексон вскочил на ноги и прервал заседание возгласом:
— Мы допускаем, что доктор Шахт действительно оказывал помощь и поддержку отдельным евреям. Но мы утверждаем, что он придерживался взгляда, что немецкие евреи должны быть лишены своих гражданских прав, а также утверждаем, что доктор Шахт поддерживал и принимал участие в преследовании немецких евреев.
Доктор Дикс сразу же поставил вопрос: выдвигались ли против меня подобные обвинения в военных преступлениях на суше и на море и явствовало ли это из обвинения? Джексон сильно возбудился. Вмешался председатель суда. Обсуждение моих военных преступлений на суше и на море временно отложили, и мы вернулись к еврейскому вопросу.
— Еврейский вопрос, — сказал я, — возник в 1930 году, когда нью-йоркский банкир Джеймс Шпейер (уже покойный) объявил о своем визите в Германию. Я пошел к Гитлеру и сообщил ему: «Господин Джеймс Шпейер, один из наиболее уважаемых нью-йоркских банкиров и крупный спонсор своей бывшей страны, едет повидаться со мной, и я намерен дать банкет в его честь. Полагаю, что у вас нет возражений». На это он ответил очень решительным и твердым тоном: «Господин Шахт, вы можете поступать так, как хотите». Из этого я понял, что с этих пор он дал мне полную свободу действий в общении с моими еврейскими друзьями, чем я и воспользовался. Банкет состоялся. Я упоминаю об этом только потому, что это был первый раз, когда между нами обсуждался еврейский вопрос. Двух примеров будет достаточно, чтобы проиллюстрировать позицию, которую я занимал в каждом случае, касающемся евреев. Я постоянно искал случая продемонстрировать ее публично.
Затем я рассказал о случае в Арнсвальде — уже упоминавшемся — и о своем обращении к молодым сотрудникам во время рождественской вечеринки. Передал также содержание своего разговора с Гитлером в июле 1934 года относительно беспрепятственной предпринимательской деятельности евреев.
Я почти через силу рассказывал о том, как помогал евреям, потому что поддерживать этих гонимых людей, хотя бы в глубине души, является долгом любого порядочного человека.
Мой адвокат полагал, что было бы неплохо ознакомить трибунал с моим мнением о Гитлере. Едва он выразил это мнение, как Герман Геринг — насколько был в состоянии — повернулся на скамье подсудимых ко мне спиной. Я сказал суду, что всегда рассматривал Гитлера опасным, малообразованным типом и придерживаюсь этого мнения до сих пор. Поза Геринга на скамье подсудимых выражала явное неодобрение, когда я продолжил свое выступление:
— Гитлер мало учился, но компенсировал это позднее беспорядочным чтением. Он приобрел большое количество книжных знаний и виртуозно пользовался этим во всех дебатах и речах. В некоторых отношениях он был, несомненно, гениален. Он был одержим идеями, которые никому другому не приходили в голову, которые были рассчитаны на преодоление больших препятствий либо своим поразительным примитивизмом, либо чаще всего своей ошеломляющей жестокостью. Это был, безусловно, дьявольский гений по силе психологического воздействия на массы. Генерал фон Вицлебен однажды подтвердил то, что никогда не могло обмануть меня и немногих других в личных беседах с Гитлером, — фюрер умудрялся оказывать поразительное влияние на других людей. Несмотря на свой хриплый, резкий голос и манеру, в какой этот голос срывался, а иногда доходил до крика, ему удавалось вызывать у громадных толп истеричный восторг. Мне кажется, что вначале им вряд ли руководили злые помыслы.
Геринг повернулся так, чтобы отчасти видеть меня, и выжидающе смотрел на меня, пока я продолжал:
— Несомненно, что Гитлер вначале руководствовался добрыми намерениями. Но постепенно он поддался тем самым чарам, которыми воздействовал на массы. Потому что, кто бы ни ставил себе целью вводить массы в заблуждение, кончает тем, что его самого вводят в заблуждение эти самые массы. По-моему, именно эта взаимозависимость — страсть руководить и неспособность противостоять руководству другими — побудила его следовать под уклон стадного инстинкта, чего должен опасаться любой политический лидер, как чумы.
Я признал, что не мог не восхищаться некоторыми качествами Гитлера.
— Это был человек неукротимой энергии и воли, которая не считалась ни с какой оппозицией. По-моему, это было связано исключительно с этими факторами — массовой психологией и его собственной силой воли, благодаря которой Гитлер смог обеспечить себе поддержку сорока, а затем и пятидесяти процентов всего немецкого населения.
Затем к присяге в качестве свидетеля был приведен защитой Гизевиус. Он показывал прежде, что я проявлял заметную активность в попытках вызвать падение Гитлера. Доктор Дикс поинтересовался, когда я впервые осознал какую-то степень своей внутренней антипатии к Гитлеру.
Я сказал, что это случилось после путча Рема.
Доктор Дикс продолжил тему и пожелал знать, когда я превратился в «заговорщика» против Гитлера. Я обозначил срок делом Фрича.
В ходе разбирательства дела Фрича — не сразу, но в течение нескольких недель, даже месяцев — для меня стало ясным, что Гитлер хочет войны или, по крайней мере, не готов предпринять все возможное для ее предотвращения.
Я сказал буквально следующее:
— Любая возможность ведения политической пропаганды среди немецкого народа совершенно исключалась. Отсутствовали свобода собраний, свобода слова, свобода писательства. Невозможно было даже вести разговоры в небольшом интимном кругу. Страну наводнили шпионы и детективы. Каждое слово, произнесенное в присутствии более чем одного собеседника, могло угрожать жизни. Единственное, что оставалось, — противопоставить силу этому террору, который не допускал никаких демократических реформ и конструктивной критики. Постепенно я пришел к выводу, что единственный способ покончить с гитлеровским террором заключался в организации путча и покушении на жизнь Гитлера.
— Что вы думали о Гитлере в это время? Просто разочаровались в нем или полагали, что он вас обманывал? — спросил доктор Дикс. — Как вы реагировали на это?
— Разочарования в Гитлере не было, — отвечал я, — я не ожидал от него многого, поскольку знал о его характере. Но полагал, что он обманывает меня, что он лжет и обманывает меня направо и налево, поскольку все, что он обещал вначале немецкому народу, включая меня, впоследствии не выполнял. Он обещал равные права всем гражданам, но своим последователям — независимо от квалификации — дал больше прав, чем другим гражданам. Обещал, что законы, касающиеся иностранцев, будут действовать в отношении евреев, то есть они будут пользоваться такой же защитой, как и иностранцы. Он добился того, что евреев лишили всех прав и стали обращаться с ними как с людьми, объявленными вне закона.