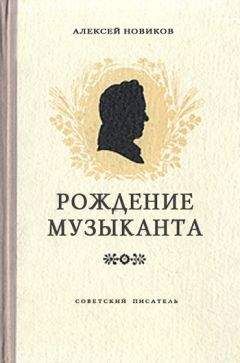Излив негодование на балетмейстера, Сен-Пьер продолжал:
«…Из наших видаюсь с Соболевским. Он намерен уставить всю Россию паровыми машинами… Здесь Кюхель, и вот кому я точно завидую. Кюхля издает альманах «Мнемозина» вместе с Владимиром Одоевским, и тебе непременно надо, чортушка, узнать Одоевского. Хоть князь, но удивительный человек – тоже музыкант, умница и сочинитель и любомудр… А «Мнемозину» ты, лапушка, читал?..»
Между тем далеко не все разделяют в Петербурге увлечение «Мнемозиной»… Александр Бестужев, например, ехидно замечает, что в статьях Одоевского, если исключить диктаторский тон и опрометчивость в суждениях, действительно видны ум и начитанность. В этом отзыве сказываются пристрастие петербургского альманашника к красному словцу да чернильная междоусобная война, которую издревле ведут перья обеих столиц. А по существу журналы Москвы и Петербурга все чаще и серьезнее толкуют о том, что зовется словом: народность.
Народности требует от словесности «Полярная звезда». А ей откликается из Москвы Кюхельбекер в «Мнемозине»: «Да создастся для славы России поэзия истинно русская».
Так пишут альманашники и судят о всех художествах, но никогда не говорят о музыке, и в спорах этих не участвует ни один музыкант.
Обитателям замка Рэкби все чаще приходится ждать, пока сочинитель будущей оперы оторвется от посторонних размышлений, не имеющих никакого отношения к их судьбе. Давно пора уже покарать злодея Бертрама и, невзирая на участь печального Вильфрида, соединить руки черноокой Матильды и благородного О'Нейля, сгорающих от нетерпения и любви. Но жестокосердый сочинитель не внемлет никаким мольбам. Облачившись в беличий халат, он разглядывает собрание российских песен – то самое, предуведомление к которому когда-то написал Николай Львов:
«…Издатель ласкается, что собрание сие имеет достоинство подлинника. Простота и целость оного ни украшением, ни поправками иногда странной мелодии нигде не нарушена. Может, сие новым каким-либо лучом просветит музыкальный мир. Большим талантам довольно и малой причины для произведения чудес».
Глинка перечитывает знакомые строки и готов утверждать, что даже гению не под силу чудо, если…
И здесь начинается у него спор.
Ладно бы поспорил он с Вальтер-Скоттом. Может быть, и простилась бы эта дерзость музыканту хотя по неведению его. Но что сказать о молодом человеке, который, ударив себя в грудь, взывает к самому Бетховену: «Никак с вами не согласен!» – и собирается диспутовать…
А именно так и случилось с Михаилом Глинкой. У Львовых продолжались музыкальные вечера, на которых часто исполнялись квартеты Бетховена и между прочим те, которые были написаны им для русского посла в Вене графа Разумовского. Должно быть, через Разумовского и попали к Бетховену русские песни, и путь их был не очень трудный. Эти песни были давно напечатаны в собрании, выпущенном Николаем Львовым. Так встретилась русская песня с гением музыки, и скрипки запели в бетховенском квартете древнюю тему русского величания: «Слава солнцу на небе…»
Просвещенные музыканты Петербурга гордились тем, что великий Бетховен почтил вниманием русский напев.
Но именно здесь и начинался спор.
Глинка то подбегал к своему роялю и проигрывал темы из квартета, словно бы переспрашивая у Бетховена, так ли именно распорядился он с русской «Славой», то снова возвращался к львовскому собранию. Глинка готов был утверждать, что сам великий Бетховен не проник в тайны премудрого песенного царства русского народа. Напев подчинился железной воле гения, и вся песня получила изысканное гармоническое одеяние, но госпожа Философия, обитающая в русском песенном царстве, не открылась даже гениальнейшему из музыкантов.
Продолжая спор, Глинка сидит за роялем и упрямо повторяет:
– Поручусь головой, песня так не ходит! Чужой кафтан!..
Но если бы заглянул в Коломну сам Людвиг Бетховен и, тряхнув львиной головой, спросил бы глухим, суровым голосом у дерзновенного молодого человека: «Как же, полагаете вы, сударь, следует прокладывать путь вашим песням в музыку?» – тогда смешался бы молодой человек и не смог бы ничего ответить. Прежде всего надо было бы обзавестись песне собственным, домотканным кафтаном. Но это вовсе не значило, что Михаил Глинка был обязан тот кафтан кроить…
Он усердно продолжал свои опыты сочинения в русском духе. А споры с Бетховеном привели его к непреложному выводу: даже величайший талант не сотворит чуда, если не проникнет в тайники народного духа. Вопрос, столь излюбленный альманашниками, оборачивался по-новому: быть или не быть отечественной народной музыке, распетой из песен?
Испытанный друг, тишнеровский рояль не мог дать ответа беспокойному своему хозяину. Не находил ответа Глинка и в оркестровой музыке. Даже излюбленная, полная песен Коломна ничем не могла помочь. А собственные опыты Глинки все еще были похожи на первые упражнения грамотея, принявшегося за изящную словесность, когда усердный ученик владеет запасом слов и свободно строит из них фразы, но еще не может выразить ясно и самобытно мысль.
Может быть, следовало сочинителю отгородиться от мира? Но мир манил всеми своими соблазнами, а с ними Глинка вовсе не собирался бороться. Да и как жить анахоретом в двадцать лет, когда все чаще приносят в дом купца Фалеева пригласительные записки и стучат в дверь даже ливрейные лакеи? Молодого человека усердно приглашают на балы. Отменного фортепианиста, способного состязаться с признанными артистами, стараются залучить из одного дома в другой. К тому же есть музыкальные собрания, которые сам Глинка посещает с особенной охотой.
Молодой человек, ведущий рассеянную светскую жизнь, возвращался домой и, сменив модный фрак на беличий халат, готовился к будущим боям. Он ведет давнюю распрю с Вальтер-Скоттом и зовет на бой самого Бетховена!..
– Эврика! – воскликнул он однажды, сидя за роялем. – Эврика!
– Чего изволите, сударь? – спросил, заглянув в дверь, дядька Илья.
– А разве я что-нибудь сказал? – удивился Глинка. – А ну-ка, постой, постой! – Он глянул на дядьку с необыкновенной веселостью. – Поищи-ка, сделай милость, ватрушек к чаю! – и, склонясь к роялю, вполголоса запел какую-то бравурную арию.
На первых уроках дело происходило так. Учитель, сидя за роялем, сильно встряхивал головой и давал этим знак к вступлению. Ученик пел сиплым голосом, который был похож отчасти на баритон и отчасти на тенор, к тому же он пел сильно в нос. Но как бы то ни было, все шло благополучно до тех пор, пока учитель, оборвав аккомпанемент, не впадал в отчаяние: