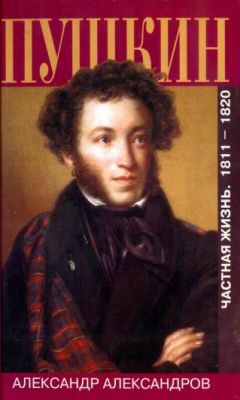Странно, он помнил свои мысли о карьере, неотступно обступавшие его в молодые годы, и сейчас, по прошествии стольких лет, прожив долгую жизнь, он видел, что все его честолюбивые мечты сбылись. Кроме него удачливей был только Саша Горчаков, у того был чин канцлера, последняя ступенька, о которой Модест и не мог мечтать. И светлейший князь еще продолжал занимать свою должность, тогда как Модест Андреевич уже был в отставке. Но это судьба, судьба! Ведь было время, когда он считал Горчакова неудачником, человеком конченым, а его карьеру неудавшейся.
За жизнь долгую много с тобой случается. Какой долгий путь он сам прошел до отставки, до графского титула, пожалованного ему Александром II в столетний юбилей его учителя и благодетеля Сперанского, которого он боготворил и о котором издал книгу.
Он хорошо понимал и чувствовал, что отжил свой век и пережил давно свою репутацию, но хандра и бессонница возвращали и возвращали его в былые годы, поскольку только там он находил то, что примиряло его со здешним миром, полнокровное существование. Без воспоминаний жизнь для него потеряла бы всякий смысл. Чаще всего он вспоминал Публичную библиотеку, директором которой он был долгие годы и которой посвятил все свои силы, и почему-то лицейские времена, которых не любил.
На последнее, видно, повлияло то, что в последнее время за ним стал таскаться Иван Петрович Хитрово, молоденький лицеист какого-то …надцатого выпуска, познакомившийся в ним на общей лицейской сходке в день 19 октября в Петербурге и нанесший на следующий день ему визит. Сейчас он торчал в Гомбурге, вертелся вокруг сановитого, но простого в обращении князя Вяземского и не забывал Модеста Андреевича.
Раз на вечернем променаде князь Вяземский преподнес Корфу стихи.
Граф, смеясь, сказал, что его однокашник Пушкин стихов ему не посвящал, на что князь совершенно по-светски возразил, что, проживи он дольше, то непременно посвятил бы.
— Просто в юности мы поклоняемся другим кумирам, — добавил он. — Все мы начинаем либералистами, а под старость вспоминаем, что родились аристократами… И что только среди аристократов нам место.
— Возможно, — сказал Модест Андреевич. — В последние годы он стал обращаться ко мне за советами.
Модест Андреевич углубился в чтение стихов. Князь знал о его перемежающейся бессоннице и потому заключил стихи такими строками:
Судьба свела нас издалеча
В чужой и тихой стороне;
Будь в добрый час нам эта встреча!
Чего желать и вам, и мне?
«Царевичу младому Хлору»
Молюсь, чтоб, к нам он доброхот,
«Нас взвел на ту высоку гору,
Где без хлорала сон растет».
«Да, хорошо бы на ту высоку гору», — вздохнул про себя Модест Андреевич, утирая платком невольные слезы и прикрывая красные с недосыпу или от хлорала и выпученные от природы глаза.
— Благодарю вас, князь! Замечательно! — сказал он вслух Вяземскому.
Разговор происходил в присутствии Ивана Петровича Хитрово, который робел в их обществе и большей частию молчал, вежливо выслушивая их старческую болтовню и лишь иногда задавая хитрые, как потом понимал Корф, вопросы.
По просьбе Хитрово Модест Андреевич составлял записку о Лицее, уточняя записи из своих записных книжек и дневников.
Записка, читанная ими в один из душных вечеров, вызвала ожесточенные споры стариков, однако не привела, как опасался Хитрово, к скандалу, люди они были светские, и не просто светские, а еще и умные, спорить любили и умели и, видимо, в глубине души понимали правоту каждого.
— Возьмем звездочки вместо имен, у вас в записке все дешифрованы, нынешняя печать не уважает охранительные звездочки. А между тем не следует забывать, что имя собственное, как и собственная судьба, частная жизнь, есть вместе с тем и личная собственность, собственность родовая, наконец, семейная, — объяснял свою позицию князь Вяземский. — С таким имуществом посторонним лицам должно обращаться осторожно и почтительно, пока эта собственность, как, например, литературная, авторская, не поступит за истечением срока в область общественного достояния…
— А какой срок, ваше сиятельство, должен быть для подобного рода собственности? — поинтересовался Иван Петрович.
— На мой взгляд, такая собственность должна оставаться неприкосновенною не только при жизни собственника, но должна быть признаваема во втором и третьем поколении. Печать унижает себя, когда печатает то, что человек не осмелился бы гласно и прямо сказать в лицо другому человеку; или когда говорит на листках своих то, что подсказывающий ей никогда не решился бы сказать в порядочном доме и пред порядочными людьми.
— Между тем, Петр Андреевич, — возразил граф Корф, — я не сказал ничего такого, чего, может быть, в иных выражениях не говорил самому Александру, ведь мы довольно долго, более десяти лет, прожили бок о бок. Кроме того, вы отрицаете возможность остаться в памяти поколений хоть одному здравому мнению среди сонма осанн, пропетых личности не вполне чистоплотной, если не сказать попросту грязной! Я не прошу никого печатать свою записку, меня спросили, я ответил, что думал и думаю, — указал он на Ивана Петровича. — Далее все на его совести. Моя же совесть чиста.
— Вот-вот, — согласился князь. — Печатное слово должно быть брезгливо, целомудренно и совестливо. А наша журналистика — это enfant terrible наступившей гласности…
— Времена меняются… — на этот раз князю возразил уже Иван Петрович, — и неизвестно, что будет приличным и неприличным в следующем веке. Хотелось бы только увидеть и прочитать правду.
Старики рассмеялись:
— До следующего века нам, увы, не дожить!
В одном они сходились — это в презрении к анекдотам, которыми обросла жизнь их великого сотоварища. Корф опровергал почти все, что пытался проверить у него Иван Петрович. Даже историю, которую Иван Петрович особенно любил, про ответ Пушкина государю Александру Павловичу.
— Все это не более чем красивый анекдот, придуманный впоследствии его поклонниками и льстецами, — объяснял граф Корф Ивану Петровичу, улыбаясь его наивности и восторженности. — Император Александр был при нас в Лицее всего только два раза: при открытии Лицея и при нашем выпуске. Мы часто встречали государя в саду и еще чаще видали его проходящим мимо наших окон к дому госпожи Велио; наконец, видели его и всякое воскресенье в придворной церкви, когда он жил в Царском. Но поверьте мне, у меня прекрасная память, любезный Иван Петрович, он никогда не говорил с нами, ни в массе, ни с кем-либо порознь… Никогда! И никаких «вторых» не было.