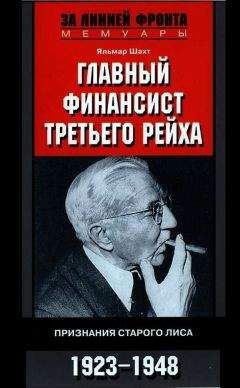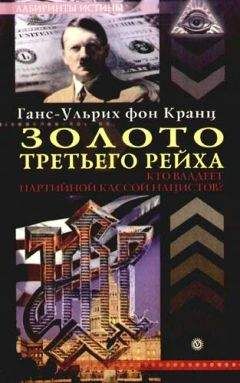Да, я, несомненно, говорил это.
— Уверен, — продолжил Джексон с явной озабоченностью, — уверен, что вы помогли бы суду, если бы сказали нам, кто эти преступники.
Я сразу понял, к чему он клонит, и сухо ответил:
— Гитлер и его помощники.
Джексон немедленно пустил в меня первую стрелу. Он заявил, что я сам был одним из помощников Гитлера.
— Хочу, чтобы вы назвали поименно всех подсудимых, которых вы считаете преступниками.
Я дал ответ, исходя из предпосылки, что не имею никакого представления о тех, кто входил в узкий круг Гитлера. Всегда считал одним из них Геринга и, со своей личной точки зрения, добавил бы сюда Гиммлера, Бормана и Гейдриха.
— Трое последних мертвы, — сердито сказал Джексон.
С этим поделать я ничего не мог. Допустил, что фон Риббентроп, как министр иностранных дел, должно быть, знал о планах Гитлера. Помимо этого, сказал я, мне нечего ответить.
Джексон показал мне фотографии, на которых я заснят в компании с другими деятелями Третьего рейха. Я входил в эту компанию, настаивал он.
— Если бы вы засняли меня с другими знакомыми, с которыми мне приходилось встречаться так же часто, как с этими, — возразил я, — то компания была бы в десять раз больше.
По сектору прессы прокатился легкий рокот. Джексон поскорее поменял тему. Он обвинил меня в том, что я делал все возможное для обеспечения участия национал-социалистов в правительстве Германии. Я настаивал на том, что уже заявлял с абсолютной искренностью, а именно: что никакое правительство в демократической стране не может позволить себе игнорировать партию, обладающую большинством приверженцев. Это ведет — и на самом деле привело — к несчастным последствиям. Джексон привел в качестве примера речь, которую я произнес по случаю дня рождения Гитлера, и я ответил, что во всем мире принято произносить речи по случаю дня рождения главы государства, не особо взвешивая слова.
Я не носил свой золотой партийный значок ежедневно. Но, отметил Джексон, я надевал его на официальные мероприятия.
Я ответил, что ношение значка обеспечивало большие льготы в пользовании железнодорожным транспортом, в обслуживании автомобиля, бронировании номеров в отелях и т. д.
Наконец он задал невероятно глупый вопрос. Поинтересовался, сообщил ли я Гитлеру, когда входил в его правительство, что делаю это только для того, «чтобы тормозить выполнение его программ».
Даже сегодня я содрогаюсь при мысли о том, что могло бы случиться, если бы я сделал это. В Нюрнберге же я воскликнул тогда:
— О нет, я постарался не говорить ему об этом!
Ведя до последнего времени фронтальные атаки, господин Джексон вдруг повел наступление с тыла.
— Полагаю, во всяком случае, что вы допускаете свою частичную ответственность за поражение Германии в войне?
Я сказал, что считаю это весьма странным вопросом. Про тебя думал: к чему он клонит? Предвосхищает ли он, что этот «Международный суд» оправдает меня? Питает ли он ко мне личную неприязнь настолько, что хочет дискредитировать меня в глазах соотечественников?
— Я ни в коей мере не несу ответственности за развязывание войны, — ответил я, — поэтому не могу нести ответственность за ее исход. Я не хотел войны.
Джексон поменял тему и перешел к еврейскому вопросу. Мне удавалось излагать свою позицию связно и последовательно, несмотря на то что он вмешивался через каждые несколько слов.
— Касательно преобладающего влияния евреев в государственных, правовых или культурных делах я всегда придерживался определенного принципа. Не считаю, что это преобладающее влияние несет благо интересам Германии или немецкого народа — христианское государство опирается на христианское мировоззрение — или интересам самих евреев, поскольку возбуждает вражду между ними. Поэтому я всегда выступал за ограничение еврейской активности в различных областях до определенной степени — за численное ограничение, основывающееся не на абсолютных цифрах народонаселения, но на определенном процентном соотношении.
Джексон вменил мне в вину то, что я не выступил против параграфа, относящегося к арийскому происхождению государственных служащих, когда его возводили в закон. Кроме того, во время моего пребывания в ранге имперского министра всем еврейским адвокатам запрещалось появляться в суде. И я лично наряду с другими присовокупил свое имя к закону, запрещающему евреям сделки в иностранной валюте и участие в экономических комиссиях расследования.
— И не вы ли также одобрили закон, — воскликнул он, наконец, — предусматривавший смертную казнь для любого германского подданного, который переправлял германское имущество за рубеж или позволял этому имуществу оставаться там?
— Конечно, — резко ответил я.
— Но вы ведь знали, что этот закон будет карать евреев, выезжающих за рубеж, строже, чем кого-либо еще?
— Разумеется, — ответил я, — мне не приходило в голову, что евреи оказались бы ббльшими мошенниками, чем христиане.
Несмотря на то что на этой стадии допроса Джексон явно старался помешать моим подробным выступлениям, мне удалось объяснить, почему я принял участие во всех этих делах. Я поступал так потому, что при всей их спорности в моем представлении они не были настолько важными, чтобы вызвать мой полный разрыв с правительством Гитлера. Он поинтересовался, с какой целью я оставался в правительстве, что было достаточно важным для моего побуждения мириться с происходящим. Я ответил, что для меня крайне важным представлялось добиться равноправия Германии с другими державами с точки зрения экономических условий и вооружения. И добавил для внесения полной ясности:
— Так я считал тогда и продолжаю считать сегодня.
У меня возникло впечатление, что Джексон был озабочен теперь переходом к главному пункту обвинения, который вменял мне в вину причастность к подготовке агрессивной войны в связи с выделением на нее финансовых средств. Он поднял вопросы о мефо-ваучерах, обо всем, что только возможно. Он обвинял меня в поощрении экспорта с единственной целью приобретения достаточного количества иностранной валюты для импорта такого сырья, которое использовалось в военных целях. Наконец, он обвинил меня в принятии определенных мер для сохранения моего контроля над финансами страны.
Джексон процитировал отрывок из меморандума, который я передал Гитлеру: «Нижеследующие утверждения основаны на предпосылке, что долгом германской политики является осуществление программы вооружения в соответствии с намеченным графиком, что все остальное должно быть подчинено этой цели, пока главная цель не ставится под угрозу пренебрежением к другим проблемам».