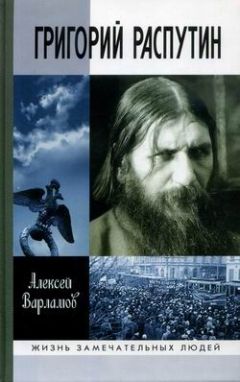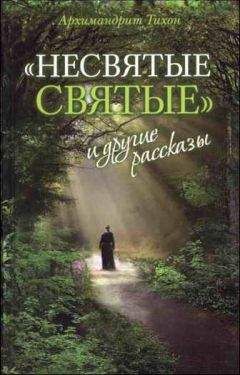А затем: 25 августа: «Вечером видели Григория».
14 сентября: «Вечером долго ждали приезда Григория. Долго потом посидели с ним».
19 сентября: «Видели недолго Григория вечером».
7 октября: «Вечером хорошо побеседовали с Григорием».
17 октября: «Находился в бешеном настроении на немцев и турок из-за подлого их поведения на Черном море! Только вечером под влиянием успокаивающей беседы Григория душа пришла в равновесие».
Так что все разговоры, будто бы Николай терпел Распутина только из-за жены, не вполне состоятельны. Распутин его действительно успокаивал. Сложнее с другим: начало войны, как известно, вызвало патриотическое воодушевление, почти восторг в русском обществе от Царя до простолюдина, и выступавший против участия России в этом безумии Распутин оказался одинок.
Вот что писал в газете «День» Бонч-Бруевич за месяц до вступления России в войну, цитируя опытного странника:
«Тебе хорошо говорить-то, — как-то разносил он, полный действительного гнева, особу с большим положением, — тебя убьют, там похоронят под музыку, газеты во-о какие похвалы напишут, а вдове твоей сейчас тридцать тысяч пенсии, а детей твоих замуж за князей, за графов выдадут, а ты там посмотри: пошли в кусочки побираться, землю взяли, хата раскрыта, слезы и горе, а жив остался, ноги тебе отхватили — гуляй на руках по Невскому или на клюшках ковыляй да слушай, как тебя великий дворник честит: — ах ты такой, сякой сын, пошел отсюда вон! Марш в проулок!.. Видал: вот японских-то героев как по Невскому пужают? А? Вот она, война! Тебе что? Платочком помахаешь, когда поезд солдатиков повезет, корпию щипать будешь, пять платьев новых сошьешь… — а ты вот посмотри, какой вой в деревне стоял, как на войну-то брали мужей да сыновей… Вспомнишь, так вот сейчас: аж вот здесь тоскует и печет, — и он жал, точно стараясь вывернуть из груди своей сердце.
Нет войны, не будет, не будет?»
Или другое интервью:
«"Что тут, братец, может сказать Григорий Ефимович? Убили уж, ау. Назад-то не вернешь, хоть плачь, хоть вой. Что хочешь делай, а конец-то один. Судьба такова". — Так еще до своего ранения успел высказаться по поводу куда более удачного покушения на австрийского эрцгерцога Фердинанда Распутин в солидных "Биржевых ведомостях". — "А вот английским гостям, бывшим в Петербурге, нельзя не порадоваться. Доброе предзнаменование. Думаю своим мужицким умом, что это дело большое — начало дружбы с Россией, с английскими народами. Союз, голубчик, Англии с Россией, да еще находящейся в дружбе с Францией, это не фунт изюма, а грозная сила, право хорошо"».
Это англо-франкофильское заявление Распутина на первый взгляд несколько расходится с его известным германофильством, хотя на самом деле противоречия тут нет: Распутин своим мужицким умом выступал за добрососедские отношения России со всеми крупными державами, был против войны и, по свидетельству различных мемуаристов, говорил о том, что не случись ему быть раненным полоумной Хионией, никакой войны, а следовательно, и революции не случилось бы.
«Надо сказать, что к войне он относился отрицательно, — показывал на следствии 1917 года Милюков. — Я имел случай это удостоверить перед войной. Тут была одна из корреспонденток, жена итальянского журналиста, которая мне сообщила о своем непременном желании познакомиться с Распутиным и спрашивала, о чем его спросить. Это было до объявления войны, я узнал, что она готовится, и просил спросить Распутина, будет война или нет. Она довольно искусно пробралась к нему, получила его доверие и задала ему этот вопрос; он сказал: да, говорят, война будет, они затевают, но, Бог даст, войны не будет, я об этом позабочусь».
«Отец был горячим противником войны с Германией, — показывала на другом следствии, в 1919 году, Матрена Распутина. — Когда состоялось объявление войны, он, раненный Хионией Гусевой, лежал тогда в Тюмени, Государь присылал ему много телеграмм, прося у него совета и указывая, что министры уговаривают Его начать войну. Отец всемерно советовал Государю в своих ответных телеграммах "крепиться" и войны не объявлять. Я была тогда сама около отца и видела как телеграммы Государя, так и ответные телеграммы отца. Отец тогда говорил, что мы не можем воевать с Германией; что мы не готовы к войне с ней; что с ней, как с сильной державой, нужно дружить, а не воевать. Это его так сильно расстроило, что у него открылось кровотечение из раны».
«На тему о войне я слышала его речи. Он был против войны, но не против войны с Германией, а против войны как войны: грех», — говорила на том же следствии В. И. Баркова.
«Он был безусловный германофил. Мне лично пришлось от него слышать в середине 1916 года: "Кабы тогда меня эта стерва не пырнула, не было бы никакой войны, не допустил бы"», — показывал полковник А. С. Резанов.
Последнее можно было бы считать распутинским хвастовством, но сохранилось письмо, которое послал Распутин Николаю из Тюмени и которое Царь, по словам дочери Распутина, держал при себе в Тобольске, а незадолго до расстрела через камердинера Императрицы передал мужу Матрены Борису Соловьеву.
Вот его текст:
«милой друг есче раз
скажу грозна туча нат
расеей беда горя много
темно и просвету нету, слес
то море и меры нет а крови?
что скажу? слов нет, неописуом
мый ужас, знаю все от тебя
войны хотят и верная не
зная что ради гибели, тяжко божье наказанье когда ум
отымет тут начало конца.
ты царь отец народа не
попусти безумным торжествовать
и погубить себя и народ
вот германш победят а
рассея? подумать так воистину
не было от веку горшей
страдальицы вся тонет
в крови велика погибель
без конца печаль
Григорш».
«Это глагол пророка… Германию победят, но что же Россия? Она тонет в крови, гибель ее велика… Какое грозное предостережение патриотическим восторгам первых дней войны! Какая картина ужасной участи несчастной России!» — патетически воскликнул в связи с этими строками автор книги «Император Николай II и революция» И. П. Якобий.
Но письмо Распутина интересно не только своим пророческим содержанием, но и тем, что его можно признать абсолютно подлинным. Оно было продано дочерью Распутина Матреной князю Николаю Владимировичу Орлову не позднее 1922 года в Вене, а тот в свою очередь передал его следователю Соколову.
«Письмо написано на листе белой писчей бумаги, имеющем размеры 34,6 и 21,6 сантиметра. Бумага — несколько сероватого оттенка, местами грязноватая. У самого края листа — часть сального пятна. В непосредственной близости с текстом — сальное пятно, круглой формы, имеющее в диаметре 2,6 сантиметра… Содержание текста писано чернилами черного цвета… При осмотре этого письма не обнаружено ничего, что указывало бы на его апокрифичность…