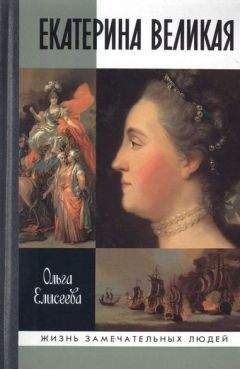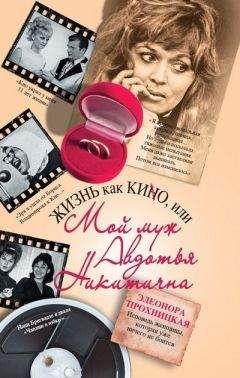Однако Григорий Александрович сдерживал гнев императрицы, понимая, что резкие меры не позволят достичь желаемого. По его совету Екатерина внесла ряд поправок в подготовленные вице-канцлером документы: главнокомандующему против «внутреннего возмущения» было отказано в начальстве над Московской губернией[965], а обе следственные комиссии, которые Петр Панин хотел подчинить себе, оставались в непосредственном ведении императрицы[966]. Таким образом, Петр Иванович и получал, и не получал желаемое. Он не отказался от командования, хотя не все его условия были выполнены, ведь и такая, урезанная власть предоставляла ему в руки большие шансы для политической борьбы. Но теперь у императрицы имелась реальная возможность противостоять возможному «диктатору», тем более что самая важная Казанская следственная комиссия оставалась в управлении троюродного брата Потемкина — Павла Сергеевича. Основываясь на его донесениях, Григорий Александрович регулярно делал доклады в Совете по вопросам суда и следствия, подчеркивая, что данные полномочия не отошли к новому командующему[967].
Но для Петра Ивановича настоящая борьба только начиналась. Получив назначение, он не поехал сразу в Казань, поскольку военные действия захватывали уже и Московскую губернию. Панин намеревался превратить старую столицу в свою штаб-квартиру и сосредоточить власть над Москвой в своих руках. В этом случае исполнить его далекоидущие политические замыслы было бы куда легче. Однако Петр Иванович промедлил, выгадывая наиболее удачный момент. Когда волны мятежников под ударами регулярной армии стали откатываться, угроза Первопрестольной миновала, и у главнокомандующего не оказалось никакого предлога для задержки в Москве. Сначала он руководил операциями из ближнего к старой столице города Шацка, а затем вынужден был последовать за карательными отрядами в Симбирск[968]. 25 августа Пугачев потерпел сокрушительное поражение от отряда подполковника И. И. Михельсона в 105 верстах ниже Царицына. Из 14–15 тысяч повстанцев спаслось около тысячи человек. Настигнутые при переправе через Волгу у Черного Яра остатки пугачевцев были рассеяны, за Волгу ушли полторы сотни казаков во главе с самозванцем. Прибыв в Царицын, генерал-поручик А. В. Суворов забрал у Михельсона его авангард — кавалеристов графа Б. П. Меллина — и бросил его в погоню за Пугачевым[969]. Как раз в это время Потемкин «отправлял на почтовых противу злодея полки и команды… Он отправил против него с Дону войска 10 полков, чем и лишил его надежды на подкрепление с той стороны»[970]. Как и следовало ожидать, повстанцы не выдержали удара регулярных войск и побежали.
На охваченных мятежом землях Петр Панин действительно повел себя как настоящий диктатор. Ни при одном из прежних командующих — А. И. Бибикове или Ф. Ф. Щербатове — край не видел ничего подобного от представителя правительственной власти. Террор охватил очищенные от повстанцев земли, для устрашения крестьян Панин приказал казнить мятежников прямо на месте поимки, без суда и следствия. Именно тогда вниз по рекам поплыли плоты с колесованными и подвешенными за ребра пугачевцами. Число подвергшихся разного рода наказаниям по приговорам Панина составило около двадцати тысяч человек[971]. Пугачев был арестован 9 сентября своими сообщниками, которые передали «злодея» А. В. Суворову. 18 сентября Суворов выступил из Яицкого городка во главе отряда, конвоировавшего Самозванца. Петр Панин заставил его свернуть в Симбирск и там 2 октября сдать ему пленника.
На заседании 18 сентября Совет слушал и обсуждал проект манифеста об окончании следствия над Самозванцем[972]. Настало время приступать к суду. Сама Екатерина официально самоустранилась от процесса, но ее переписка с П. С. Потемкиным, М. Н. Волконским и генерал-прокурором Сената А. А. Вяземским доказывает, что она ни на минуту не выпускала из рук нитей разбирательства и проводила через своих приверженцев нужные ей решения[973].
Панинская группировка добивалась сурового наказания вожаков восстания, в частности смертной казни через четвертование, по крайней мере для тридцати — пятидесяти человек. Целью этого шага было не только устрашение. Со времен казни стрельцов при Петре I Москва не видела такого числа жертв. За время царствования Елизаветы Петровны в России вообще отвыкли от подобных зрелищ. Н. И. Панин помнил, как неприятно был поражен Петербург казнью Мировича. Обильная кровь на московских плахах не могла вызвать восторга в обществе. Партия наследника стремилась прочно связать имя императрицы со страшными событиями крестьянской войны и жестокой расправой над повстанцами. Одно дело вешать мятежников в далеком Оренбуржье, и совсем другое — в сердце страны. Сам собой напрашивался вопрос: а достоин ли царствовать государь, допустивший в России новую смуту?
Екатерина прекрасно понимала эту логику. Ей выгодно было сократить число жертв. Сторонникам императрицы на заседаниях порой приходилось очень непросто, ведь ни Волконский, ни Вяземский не могли гласно заявить: такова воля Ее величества. Петр Панин обвинял их в недостатке рвения, легкомыслии, чуть ли не в измене, и суд едва не пошел у него на поводу. Однако Екатерина в нужный момент осуществила нажим, и Волконский с Вяземским настояли на смягчении приговора. Именно желание Екатерины сыграло решающую роль в принятом судом решении: наказать смертью только самого Пугачева и пятерых его ближайших сподвижников, которые были повешены.
Самозванца казнили 10 января на Болотной площади[974]. По закону Пугачева следовало четвертовать, но палачу передали тайное приказание императрицы «промахнуться» и сначала отрубить «злодею» голову.
Нелегко прошло и подписание Манифеста о прощении бунта. Провозглашение подобного документа прекращало преследования бывших повстанцев. Оно ставило точку в крестьянской войне, а значит, и в полномочиях П. И. Панина. В этом вопросе братья Панины решили действовать через великого князя Павла, которого Екатерина призывала для обсуждения документа. В записке Потемкину 18 марта 1775 года императрица говорила: «Вчерась Великий Князь поутру пришед ко мне… сказал… прочтя прощение бунта, что это рано. И все его мысли клонились к строгости»[975]. Однако императрица не вняла доводам сына. На другой день в Сенате она огласила Манифест, и, по ее словам, «многие тронуты были до слез». Внутренняя смута закончилась.