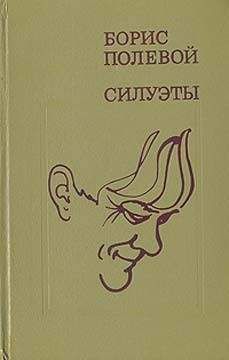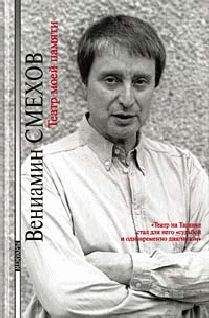Равнодушный к наградам, ко всяким внешним выражениям почета, Иван Рябов, не скрывая, гордился тем, что он старый правдист, и показывал пример, как надо носить это славное звание. При этом он был необыкновенно скромен, никого не поучал и, как его ни упрашивали, отказывался читать лекции по журналистике. Но в его докладах на семинарах и даже в простых выступлениях на редакционных летучках столько интересных мыслей о печатном слове, о журналистской профессии, что, если их систематизировать, они могли бы оказать добрую помощь начинающей литературной молодежи.
Его друг, правдист Юрий Лукин, готовясь к докладу о творчестве Рябова, извлек некоторые его суждения о профессии из старых стенограмм.
Говоря о радости быть большевистским журналистом, Рябов восклицал: «Газета — зеркало жизни. Ценно уже это одно ее качество. Но газета не только отражает то, что уже вошло в жизнь, стало явью, реальностью. Газета выступает в качестве организатора нового в жизни. Она смотрит вперед и выше, ей присущ полет мысли, у нее есть крылья мечты, недаром она стала такой привлекательной силой для энтузиастов и романтиков нового века в деревне».
«…У нас есть силы, энергия, желание работать. У нас есть все возможности для работы, предоставленные литераторам нашим великим и великодушным народом, столь любящим и ценящим литературу».
И дальше, верный своей поэтической манере, Рябов говорит: «У каждого человека от природы есть внутри тонкая чудодейственная пружина. Когда ее заведут, зарядят, она двигает человека к великим целям. Но, если она долго остается без употребления и ее не заряжать, она ржавеет и тогда только напрасно бременит человека. И заряжать ее должен сам носитель».
Сколько раз все мы, знавшие Рябова, слышали от него двустишье Ибсена, которое он цитировал еще когда-то, в сменовские времена:
…Того позабудет завтрашний день,
Кто сам о сегодняшнем дне забывает.
Его последняя, напечатанная незадолго до смерти, статья, посвященная новой книге молодого поэта, так и называется «Приметы времени». Многозначительное двустишье Ибсена я процитировал по ней.
Но, сделав современника и современность главной темой своей литературной деятельности, обладая счастливым даром замечать новые явления в момент их зарождения, радуясь всему новому, Рябов презирал тех коллег, которые, спекулируя на современном звучании темы, несли читателю всяческие недопеченные скороспелки. В редакции одного журнала мне привелось стать свидетелем такого многозначительного диалога. Рябову предлагали написать рецензию на одну такую ультрасовременную книгу, весьма в ту пору поднимаемую и окуриваемую критикой.
На мгновение брови Рябова сердито сошлись, но потом в глазах вспыхнули лукавые огоньки.
— Рецензию? Нет, я напишу фельетон. Ладно? Фельетон о литераторе, старающемся современность заменить сиюсекундностью. Идет?
Мысль эта ему, видимо, очень понравилась. Раздался задорный тонкий смешок, отразившийся не только в глазах, но и в каждой морщинке лица.
— Ох, соленый будет фельетон о человеке, который, позабыв о том, что на свете есть самый внимательный советский читатель, позабыв о реальной жизни, как Бобчинский или Добчинский, стремится лишь первым сказать «э».
И, развивая эту мысль, которую вынашивал с юношеских лет, он в зрелые годы говорил: «Искать жизнь — это в первую очередь искать и находить людей, творящих эту жизнь, преобразующих свое бытие. Надо искать и находить людей, олицетворяющих наш народ, выражающих в своей личности, в своем мышлении, в своих делах и подвигах генеральную линию нашего века, генеральную линию коммунистического строительства».
Людей он любил и всегда говорил, что именно в деятельности советского человека — стиль, дух его героического времени, его неповторимость, его новшества, его богатства. И он советовал, как искать и находить таких людей. «Надо брать их не по должностному признаку, не по анкетным данным, не по внешним приметам и не по рекомендациям, которые часто являются поверхностными. Очеркист, писатель должен в огромном человеческом море находить человеческие индивидуальности, расцветшие в условиях коммунистического строительства. И черты этой человеческой индивидуальности, черты советского человека вводить в мир газеты, делать их достоянием литературы»…
Перечитываешь его очерки, фельетоны, корреспонденции разных лет, и перед тобой проходит в образах, в портретах, в живых зарисовках история нашей страны, вереница тружеников, строящих социализм, готовящих себя к построению коммунизма. Глубокая человечность рябовского творчества сделала лучшие из его литературных миниатюр нестареющими, они с интересом читаются и сегодня, сохраняя свое боевое звучание на завтра, и на послезавтра, и, может быть, на многие годы.
Завтрашний для Рябова день не забывает того, кто так сердечно, проникновенно, умно писал о дне вчерашнем и позавчерашнем. Вот почему, вероятно, всем, кто знал Ивана Афанасьевича, Ваню, так трудно говорить о нем в прошедшем времени.
Э. Л. Войнич
…Все, что произошло сегодня, 18 ноября 1955 года, похоже на странный сон. И если бы сейчас не горела в углу долговязая лампа, если бы в приподнятую металлическую оконную раму вместе с ночной прохладой ветер не задувал неумолкающий шум Нью-Йорка, ей-богу, можно было бы подумать, что все, что я собираюсь сейчас описать, привиделось в странном сне.
Мы были в гостях у Этель Лилиан Войнич. Ну да, у Войнич, автора романа «Овод». Я знаю, что это сообщение звучит приблизительно так же, как если бы я сказал: «Знаете, я сегодня завтракал в аптеке на уголке с Владимиром Галактионовичем Короленко», или: «Я встретился на Парк-авеню с Михаилом Евграфовичем Салтыковым-Щедриным». Но тем не менее это так. Мы с ней виделись, и сейчас я постараюсь подробнейшим образом описать обстоятельства этой встречи, а также и всё предшествующее ей…
Когда-то, когда мне было лет двенадцать, мать дала мне книжку в желтеньком, как сейчас помню, переплете.
— Прочти, вот любимая книжка твоего отца, — сказала она.
Это у нас в доме было мерилом самых высоких литературных качеств. Помнится, были какие-то ребячьи дела, помнится, что сел я за книжку с неохотой, но прочел несколько страниц — и потом два дня не мог оторваться. С тех пор бесстрашный, благородный, злой Овод стал моим другом на всю жизнь. Даже первые заметки в «Тверской правде», которые я писал еще шестиклассником, были самонадеянно подписаны: Б. Овод. Потом я не раз перечитывал этот роман, видел поставленные по нему фильмы, и черно-белый и цветной, видел в разных театрах инсценировки «Овода». И каждый раз к прежнему впечатлению добавлялось что-нибудь, не замеченное прежде. Это одна из тех счастливых книг, которые можно читать много раз, извлекая еще что-то новое, соответствующее возрасту, жизненному опыту, настроению.