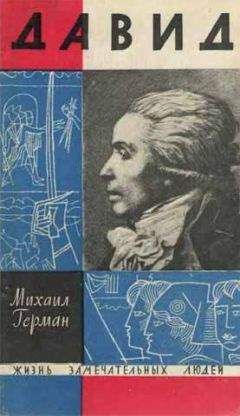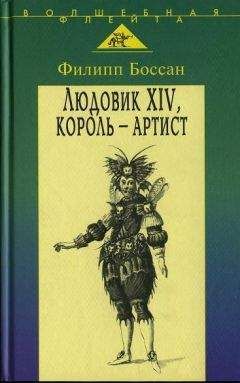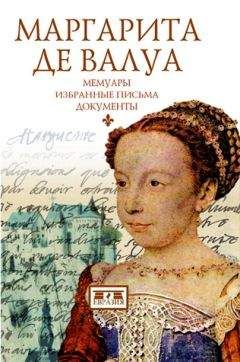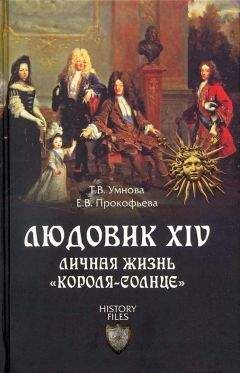Да и сам Рим постоянно вторгался в его искусство, Своими зданиями и развалинами храмов и базилик, соразмерностью замшелых колонн, тяжелой стройностью триумфальных арок он приучал глаз к гармонии масс, объемов, цветов.
Первые недели в Риме Давид чувствовал себя как во сне, словно гравюры, виденные в Париже, ожили и воплотились в реальность. Гравированные пейзажи Рима заслоняли от него настоящий город, где причудливо смешались века и целые эпохи. Увражи, знакомые по Парижу, в точности воспроизводили памятники и здания, но действительность была совсем иной: отсвет южного неба лежал на выщербленных камнях; аромат померанцевых деревьев смешивался с запахом пыли и плесени в старых храмах, и капли веселого дождя сверкали на только что отрытой античной мозаике. Солнце, краски, трепещущий воздух преображали знакомые формы прославленных зданий. Постепенно книжное представление о Риме рассеялось, забылось, и настоящий город вошел в жизнь Давида. Он волновал художника неожиданно открывавшимися следами старины. Мраморный карниз с полустершейся надписью и торжественными «SPQR»[6], затерявшийся между кирпичной кладкой; темная герма с головой Януса на перекрестке дорог; колодец с журчащим фонтаном, из которого брали воду рабы Цезаря; тысячелетний мост Эмилия над мутным Тибром, словно сошедший с барельефа на триумфальной арке.
Давид много рисовал на улицах, в его альбомах были наброски карандашом, пером, сепией: виды Палатинского холма, пейзажи Компаньи.
…Его композицию 1778 года «Триумф Павла Эмилия» и этюды с натуры академия одобрила:
«Следует отдать должное сьеру Давиду, он показал величайшую легкость кисти, цвет в его работах живой, хотя несколько однообразный, манера располагать драпировки — свободная и естественная. В большом батальном эскизе, исполненном с несомненным пылом, можно поставить автору в упрек только излишнюю пестроту в светах и чрезмерную близость некоторых групп к широко известным образцам…»
Проницательные, академики были правы, античность порою подавляла Давида. Он всему отдавался с пылом и подчинялся тому, что изучал. Все же он не освободился вполне от старых приемов — французская манерность не исчезала из его работ, как он ни старался.
Следующий эскиз — «Похороны Патрокла» — заслужил очень лестные отзывы академиков:
«Сьер Давид показал, что значительно продвинулся вперед. Мы с удовольствием отметили в его работе большую легкость и превосходную живопись. Если компоновка еще и не вполне совершенна, то колорит правдив в светах… Этот эскиз обещает огромный талант…
…Мелкие упреки, которые сделаны живописцу, должны не обескураживать его, но, напротив, еще более воодушевить к осуществлению тех больших надежд, которые на него возлагают».
Он и сам имел основания быть довольным: «Похороны Патрокла» — большая композиция в несколько сот фигур говорила о том, как возмужала кисть Давида, как пропиталась она примером древних. Но неудовлетворенность жгла сердце Давида, его муза повзрослела, но еще не стала римлянкой. Он считал, что подражать и то не научился как следует. Разве он достиг отточенной простоты античности? Наверное, был прав семидесятилетний синьор Баттони, прославленный живописец и друг Винкельмана, когда, придя в палаццо Капраника, сказал на своем смешном французском языке:
— Французы хорошо делают эскизы, но они не умеют заканчивать свои картины.
Весной 1779 года Давид со своим товарищем по академии скульптором Сюзаном и молодым археологом, любителем древности Катрмером де Кенси отправились в Неаполь. Давид давно собирался посетить знаменитые на весь мир раскопки Геркуланума и Помпеи, но работа не давала передышки, и только теперь, спустя четыре года после приезда в Италию, он осуществил свое намерение.
Впервые за несколько лет Давид снова испытывал чувство счастливой праздности, которое дарит путешествие. Легкий баул брошен на пол открытой коляски вместе с ящиком для красок, впереди несколько дней полного и блаженного безделья.
Его спутник — один из интереснейших людей, с которыми доводилось встречаться Давиду. Катрмеру де Кенси недавно исполнилось двадцать четыре года, но ученостью своей он мог поспорить с маститыми профессорами, хотя совсем не походил на них. Он вглядывался в мир с неиссякаемым любопытством, рассказывал о том, что знал, просто и увлекательно. А знал Катрмер по-настоящему много: представление о том или ином событии возникало у него не только из книги какого-нибудь древнего писателя, а составлялось из десятков мелких живых деталей, которые подсказывала память; он помнил множество латинских книг, даже второстепенных, объездил всю Италию, знал все ее храмы, статуи, арки. Для Катрмера история не была бесцветным собранием фактов, он видел ее в совокупности великого и малого, чувствовал ее цвет и аромат, а Нерон или Вергилий существовали в его воображении как живые люди, о которых можно говорить и размышлять не только словами Светония или Диона Кассия, а простыми человеческими словами.
При первом же знакомстве с этим юношей Давид почувствовал к нему живейшее расположение; перед его глазами будто открывался просвет: античность оборачивалась новой стороной, в ней появился тот же живой трепет, что и в полотнах Рафаэля. С обычной своей пылкостью живописец увлекся новым знакомым; возможность вместе с ним совершить поездку в Неаполь чрезвычайно обрадовала Давида.
Катрмер тоже находил удовольствие в обществе Давида, он угадывал в художнике жадную восприимчивость к собственным мыслям. Как и он, Давид испытывал отвращение к барочной пышности. У живописца это подкреплялось творчеством, и Катрмер, как и всякий теоретик, наивно радовался, видя реальное воплощение своих идеалов прекрасного в полотнах Давида. Катрмер нашел в нем благодарного слушателя: то, что стало близко Давиду в книгах Винкельмана, но что из-за врожденного равнодушия к теории так и осталось неизученным, в изложении его. просвещенного спутника отчетливо врезалось в память и поражало воображение. Ясный ум Катрмера не был стеснен сомнениями, заботами о будущем, поисками своего пути. Он был богат, делал лишь то, что ему нравилось, и потому все делал с увлечением. В словах молодого ученого Давид находил подтверждение своим еще не осознанным мыслям.
— Можно ли видеть в этих великолепных созданиях лишь высшее и совершеннейшее проявление латинского гения? — говорил Катрмер Давиду, когда они проезжали мимо развалин храма. — Полагая, что искусство древних есть выражение только их идеалов прекрасного, не впадаем ли мы в ошибку, столь же нелепую, сколь и распространенную? Не правильнее ли видеть в искусстве римлян живое отражение справедливых и нравственных начал, доблести и мужества, наконец, просто физической красоты? Нельзя думать, что древние могли бы приходить в восторг от произведений искусства, не похожих на действительность, ведь их ум не был, подобно нашему, отягчен теориями академиков и философов. Статуи, в которых мы склонны видеть абстрагированный идеал, делали живые люди для живых людей. И не пример пластической красоты — единственная ценность, оставленная нам римлянами и эллинами, а то совершенство духа, которое породило эту красоту.