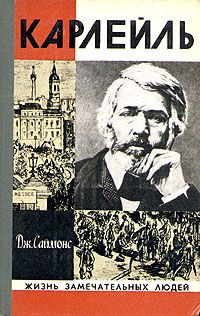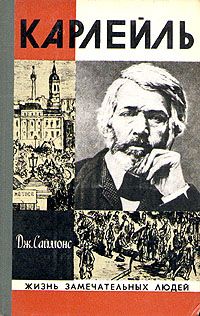Однажды, приехав домой на субботу и воскресенье, Томас вызвался посидеть с больным дядей, за которым ухаживала миссис Карлейль. Ночью больной умер, и Карлейль запомнил его ярко-голубые глаза, «широко раскрытые, пока жизнь не покинула их около трех часов пополуночи». Много лет спустя его как-то спросили, не ощутил ли он в этот момент в себе ортодоксальной веры в бога, на что он ответил, что с такой верой давно уже было покончено, хотя вслух он в этом и не признавался. Кажется, его подвела память: ведь он в это время все еще числился студентом-богословом, и ему еще полагалось учиться три года, прежде чем решить, быть ему священником или нет. Правда, в переписке Карлейля с Робертом Митчелом об их будущем призвании говорится явно без особой теплоты. Христианство, напоминал Карлейль своему другу, в своей основе «опиралось на одну лишь вероятность, и хоть она, бесспорно, велика, все же это только вероятность». Он без отвращения работал над трактатом, который требовался от начинающих священников в Эдинбурге, и его пробная проповедь на тему «Польза скорби» заслужила одобрение профессоров. В то же время чтением он углублял свой скептицизм. В письме к Роберту Митчелу, написанном вскоре после его назначения в Аннан учителем, он сетовал на фанатический скептицизм Давида Юма и его слепую приверженность к безбожию, и это было вполне типичное письмо одного молодого богослова к другому. Но уже через несколько месяцев он признавался другу, что восхищен этим философом, который даже свои заблуждения отстаивал столь остроумно, что, право, жаль было бы увидеть его поверженным. И Карлейль с не меньшим остроумием начинал излагать свои собственные еретические идеи о том, что развитие личности, пожалуй, больше зависит от внешних причин, чем от нравственных стимулов.
Круг чтения Карлейля и в студенческие годы, и позднее по широте и характеру был просто несовместим с заурядной жизнью и взглядами скромного священника. Его интересы простирались от Шекспира (который в Эдинбурге даже не упоминался и которого философ Юм считал талантливым варваром, лишенным вкуса и образованности) до таких книг, как «Трактат об электричестве» Франклина – одной из многочисленных красных книжек небольшого формата, которые он обнаружил в библиотеке университета. В начале его переписки с Робертом Митчелом Карлейль читал «Историю математики» Боссюэ и вел с другом споры на математические темы. Несколько месяцев спустя мы уже застаем его за чтением «Оптики» Вуда и «Принципов» Ньютона, Цицерона и Лукана, Вольтера и Фенелона; философов-идеалистов, включая и шотландца Дугалда Стюарта; множества современных писателей, начиная от Байрона и Скотта и кончая дамами-романистками. На этом фоне, «сражаясь со словарями, химическими экспериментами, шотландскими философами и метафизикой Беркли», он готовил свою вторую проповедь – «Натуральную религию», на латинском языке. Ее прочитал он тоже успешно, но радость была омрачена отсутствием Митчела, который к этому времени уже твердо решил, что не станет священником, и Карлейлю так и не удалось уговорить его приехать в Эдинбург.
За религиозными сомнениями и жаждой знаний, обуревавшими в то время Карлейля, таилась и надежда при поддержке друга начать собственную творческую работу, – одновременно и жалкая и трогательная. Он с восторгом откликнулся на предложение Митчела обмениваться научными эссе. «За темами дело не станет, – писал он. – Литературные, метафизические, математические, физические – выбирай любую». Превосходное занятие на лето. «Поскольку идея твоя, ты, конечно, не отступишь от того, что сам же предложил, а значит, будешь без промедления посылать мне свои опыты». Но, увы, в этот план всерьез верила лишь одна из сторон. Как ни старался Карлейль расшевелить своего друга сообщением, что нашел объяснение радуги, как ни приглашал его обсудить ошибки Джона Гамильтона Мура, автора «Практической навигации», считавшего, например, что «притяжение шлюпки к кораблю и корабля к скале вызвано «гравитацией, а не капиллярным притяжением, – несмотря на все старания, ленивый Митчел отвечал неаккуратно.
Почти два года Карлейль пробыл в Аннане, мучаясь неудовлетворенностью, пока его не спас все тот же добрый профессор Лесли, который вспомнил о своем бывшем ученике, когда его попросили порекомендовать учителя топографии и математики для Школы Берга в Киркольди. Снова Карлейль прошел собеседование и снова успешно: «Мало кто в его положении сумел направить свои интересы на более разнообразные предметы или приобрести более широкие познания» – таково было мнение беседовавшего с Карлейлем, представленное в совет школы. Карлейль перебрался из Аннана в Киркольди, где вскоре завязалась дружба, оказавшая глубокое и благотворное влияние на всю его жизнь.
* * *
Задолго до того как Карлейль оказался в Киркольди, в злосчастную пору его ученичества в Аннане, в один из больших светлых классов вошел молодой человек. Его, уроженца Аннана и бывшего ученика семинарии, знали здесь все, хотя бы по рассказам: шестнадцатилетний Эдвард Ирвинг, уже три года как студент Эдинбургского университета, держался с достоинством и уверенностью взрослого мужчины и разговаривал как с равным даже со строгим учителем английского, стариком Адамом Хоупом. Карлейль обратил внимание на этого высокого смуглого молодого человека в черном сюртуке и узких панталонах по тогдашней моде, от его слуха не укрылась некоторая нарочитость в произношении отдельных слов (или так показалось ему, привыкшему слышать только родной диалект Аннана). Этот высокий, красивый, такой уже взрослый с виду молодой человек, так свободно болтавший с Адамом Хоупом о столичной жизни, казался нашему школьнику совершенным воплощением удачи. Или по крайней мере почти совершенным: прекрасное впечатление портило косоглазие, придававшее несколько мрачное выражение его честному и открытому лицу. Так Карлейль впервые увидел человека, который оказался «самой свободной, братской, смелой душой, с коей когда-либо соприкоснулась моя душа... лучшим из всех людей, кого я когда-либо, после долгих поисков, сумел найти». Это было сказано Карлейлем уже на закате странной и трагической жизни Ирвинга.
Их первая встреча, однако, произошла лишь через семь лет и поначалу не обещала ничего хорошего. Карлейль к тому времени уже много слышал об Ирвинге: о его выдающихся способностях, об успешной работе учителем сначала в Хэддингтоне, а затем в Киркольди. Более того, Ирвинг играючи и с блеском выдержал все богословские экзамены и начал проповедовать. Случай, происшедший с ним во время его первой проповеди, показывает его самообладание, но также дает намек на то, почему некоторые не любили его, находя, что он слишком рисуется. В самый разгар проповеди Ирвинг задел Библию, лежавшую перед ним, и листки, по которым он читал, посыпались на пол. Проповедник наклонился, свесившись через кафедру, подобрал листки, сунул небрежно в карман и продолжал говорить так же свободно, как перед этим читал по бумаге. Жест произвел впечатление, и все же было в нем что-то чересчур вольное, и не всем он пришелся по вкусу.