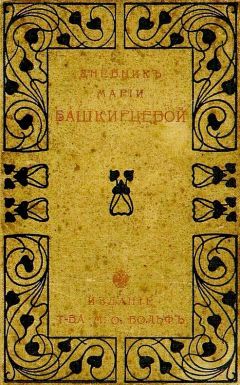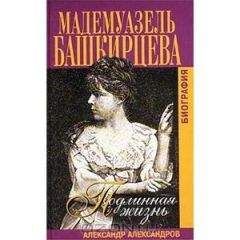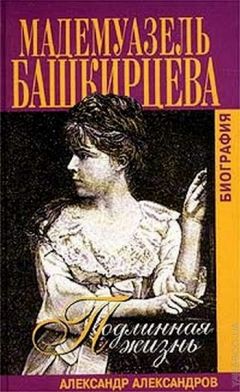И в то же время, как я плакала в вышеозначенном месте, я вдруг отыскала взгляд моей Магдалины: она не глядит на гробницу, она никуда не глядит, как я сию минуту. Глаза широко раскрыты — как всегда после слез… Наконец-то, наконец, наконец!
Пятница, 17 августа. Никто не хочет верить в мою застенчивость; а между тем она легко объясняется избытком гордости.
Я чувствую настоящий страх, ужас и отчаяние, когда приходится просить; нужно, чтобы люди сами предложили мне. В какую-нибудь необыкновенную минуту я решаюсь попросить, но из этого никогда ничего не выходит: вечно попрошу слишком поздно или совсем некстати.
Я бледнею и краснею несколько раз прежде, чем осмелиться заявить о своем желании выставить что-нибудь или написать такую-то картину; мне кажется, что все смеются надо мной, что я ничего не знаю, что я притязательна и смешна.
Когда глядят (глядят… — какой-нибудь художник, разумеется) на мою картину, я ухожу куда-нибудь за две комнаты, так я боюсь какого-нибудь слова или взгляда. А между тем Робер-Флери и не подозревает, до какой степени во мне мало самоуверенности. Я говорю с апломбом, и он воображает, что я очень ценю себя и приписываю себе таланты Поэтому он даже не считает нужным ободрять меня, и если бы я сообщила ему все мои колебания и страхи, он бы засмеялся. Я ему раз стала высказывать это, а он принял все это за шутку, за комедию. Вот ведь в какую ошибку я могу ввести!.. Бастьен-Лепаж знает, я думаю, что я ужасно боюсь его и считает себя богом…
Понедельник, 20 августа. Я пою, луна светит через большое окно мастерской; все так хорошо. Счастье должно быть возможно. Да, если только есть возможность полюбить. Полюбить кого?
Вторник, 21 августа. Нет, я умру только около 40 лет, как m-lle С.; к 35 годам я разболеюсь окончательно и в 36–37 лет окончу зимой, в своей постели. А мое завещание? Я ограничусь в нем просьбой статуи и картины — Сен-Марсо и Жюля Бастьена-Лепажа, — поместить в какой-нибудь парижской часовне, окруженной цветами, стоящей на видном месте; и в каждую годовщину пусть исполняют надо мной мессы Верди и Перголезы и другие вещи — лучшими певцами Парижа.
Впрочем, я хочу еще основать стипендию для художников — женщин и мужчин.
Но вместо того, чтобы заниматься всем этим, я хочу жить… Но у меня нет гения и в конце концов все-таки лучше умереть…
Понедельник, 27 августа. Я дала на лотерею в пользу Искии моего Рыбака на ловле, все выигрыши выставлены в зале Petit. Он таки очень недурен — мой рыбак, и вода — совсем хороша. Вот не воображала-то! О, рамка! О, обстановка! Все мы какие-то безумцы! Зачем работать над произведениями искусства толпа ведь ровно ничего в нем не смыслит. И однако ты ведь любишь толпу, друг любезный? Да, т. е. я желаю составить себе всеми признанную репутацию, чтобы возбуждать в людях еще больший восторг и удивление.
Среда, 29 августа. Я кашляю все время, несмотря на жару; а сегодня после полудня, в то время, как мой натурщик отдыхал, я впала в какое-то полузабытье, сидя на диване, и вдруг… я представилась себе лежащей с большой восковой свечой в изголовье.
Так вот какова будет развязка всех моих треволнений. Умереть! Я так боюсь.
И я не хочу. Это ужасно. Я не знаю, как это делается у разных счастливцев, но я поистине достойна сожаления с тех пор, как перестала возлагать надежды на Бога. Когда это последнее высшее прибежище изменяет, остается только умереть. Без Бога нет ни поэзии, ни глубоких чувств, ни гения, ни любви, ни честолюбия.
Страсти бросают нас из сторону в сторону в ненадежные области разных стремлений, желаний, нелепых крайностей мысли. Человек непременно нуждается в чем-нибудь высшем, стоящем над его жизнью, в Боге, которому он нес бы свои гимны и свои молитвы, в Боге, к которому мог бы прибегнуть со своими прошениями, который всемогущ и перед которым можно излить всю душу. Я хотела бы слышать признание всех, когда-либо живших, замечательных людей: неужели они не прибегали к Богу в своей любви, в своих страданиях, в своих мечтах о славе.
Обыденные натуры — хотя бы и самые умные и ученые, могут обойтись без этого. Но те, в ком тлеет искра святого огня — будь они ученые, хоть, как сама наука, даже и сомневаясь разумом, верят страстно… по крайней мере моментами.
Я не учена, но все мои размышления сводятся к следующему:
Бог католический… нет, нечего и говорить о нем… Но Бог гениальных людей, Бог философов, Бог людей просто интеллигентных, вот как мы… этого Бога… если бы его не было — откуда эта потребность поклоняться ему у всех народов и во все времена? Возможно ли, чтобы ничто не отвечало этим душевным порывам, врожденным у всех людей, этому инстинкту, побуждающему нас искать высшего существа, великого властелина Бога?..
Четверг, 13 сентября. Стендаль говорит, что несчастья и неприятности кажутся менее горькими, если мы их идеализируем Это в высшей степени верно. Но как идеализировать мои? Невозможно! До того они горьки, до того плоски, до того ужасны, что я не могу говорить о них даже здесь, не нанося себе лишней ужасной раны. Как признаться, что иногда я плохо слышу!.. Но да исполнится воля Божья. Фраза эта приходит мне на ум как-то машинально, но это почти то, что я действительно думаю. Потому что я ведь умру, — преспокойно умру, как бы там ни лечилась… Да оно и лучше, потому что я еще вдобавок боюсь за мои глаза: вот уже пятнадцать дней, что я сидела без работы и без чтения и мне вовсе не лучше. Какое-то странное мелькание в воздухе… Это может зависит от того, что вот уже пятнадцать дней, что у меня бронхит, который хоть кого свалил бы с ног, и с которым я однако прогуливаюсь как ни в чем не бывало.
Я работала над портретом Дины в таком трагическом расположении духа, что у меня наверно еще прибавится седых волос.
Суббота, 15 сентября. Я в конец разболелась. Налепляю себе на грудь огромнейшую мушку. Сомневайтесь после этого в моем мужестве и моем желании жить! Впрочем никто не знает об этом, кроме Розалии. Я преспокойно прогуливаюсь по мастерской, читаю, болтаю и пою — почти прекрасным голосом. Так как по воскресеньям я часто ничего не делаю, это никого особенно не удивляет.
Среда, 18 сентября. Благодаря тому, что русская пресса обратила на меня внимание, кажется, и все понемножку заинтересовались мной, между прочим Великая Княгиня Екатерина Михайловна. Мама близка с ее камергером и его семьей, и там совершенно серьезно говорили о назначения меня фрейлиной. Для этого нужно еще быть представленной Великой Княгине. Обо всем этом было уже переговорено, но мама сделала ошибку, уехала оттуда и оставив все это дело на произвол судьбы… Но не в том дело… Моя душа ищет родной души. Но у меня никогда не будет подруги. Клара говорит, что я не могу быть дружна с какой-нибудь девушкой, потому что у меня нет разных маленьких тайн и маленьких девичьих историй.