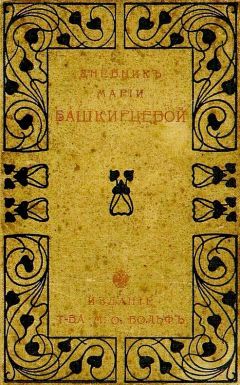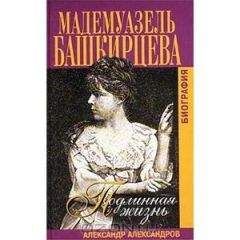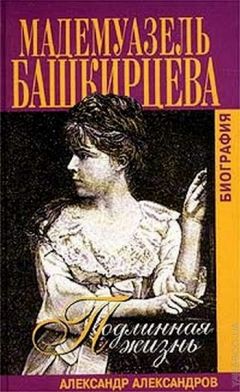— Вы слишком хорошая. Вам нечего скрывать…
Среда, 26 сентября. Теперь, когда все неприятности преданы забвению, я вспоминаю только о том, что было в моем отце хорошего, оригинального, умного. Он был безрассуден и казался для обыкновенных людей легкомысленным и даже чудаком. Было в нем, может быть, немного сухости и хитрости… Но кто не имеет недостатков! Хоть бы и я сама… И я невольно обвиняю себя и плачу. Если бы я тогда поехала… Это было бы только из приличия, потому что ведь побуждающего к этому чувства не было… Имело ли бы это все-таки какую-нибудь цену? Не думаю.
У меня не хватило на это чувства, и Бог накажет меня за это. Но моя ли это вина?.. И потом зачтутся ли мне чувства, сегодня мной испытываемые?.. Ответственны ли мы за наши непосредственные чувства.
Нужно исполнить свой долг, скажете вы. Но дело шло не о долге. Я говорю о чувстве, и если у меня тогда не было потребности поехать, каким образом будет судить меня за это Бог?
Да, мне жаль, что я не могла раньше почувствовать этого порыва. И он уже умер, и это непоправимо. И что стоило мне поехать исполнить мой долг, потому что ведь это был мой долг — поехать к умирающему отцу. А я не поняла этого, и теперь чувствую себя далеко не безупречной. Я не исполнила своего долга. Нужно было сделать это. И это будет вечное сожаление. Да, я нехорошо поступила, и я раскаиваюсь, и мне так стыдно перед самой собой; это очень тяжело… Я не хотела бы оправдываться, но не думаете ли вы, что мама должна была бы высказать мне это тогда. О, да. А она побоялась, что я утомлюсь: и потом рассуждения: что если мол, Мари поедет с матерью, то они застрянут там на полгода, а если Мари останется, мать возвратится скорее… Все эти семейные доводы!.. Увы! вечно-то человек поддается чьему-нибудь влиянию, сам не замечая этого…
Понедельник, 1 октября. Сегодня отправляли в Россию тело нашего великого писателя Тургенева, умершего две недели тому назад. На вокзале — очень торжественные проводы. Говорили Ренан, Абу и Вырубов, который своей прекрасной речью, на французском языке тронул присутствующих более, чем другие. Абу говорил очень тихо, так что я плохо слышала, а Ренан был очень хорош и на последнем прости у него дрогнул голос. Я очень горжусь при виде почестей, оказываемых русскому этими ужасными гордецами — французами. Я их люблю, но презираю. Они покинули Наполеона на Святой Елене… Это преступление огромное, чудовищное, ужасное, это вечный позор…
У других народов однако был же убит Цезарь… И потом они не оценили Ламартина, который в древности удостоился бы алтарей, как справедливо замечает Дюма-сын. И потом еще у меня против них зуб личного характера: они не признают таланта Бастьена-Лепажа. Мы были, после проводов Тургенева, в Салоне, и я не могу видеть его живописи без излияний восторга — внутренних излияний, потому что подумают еще пожалуй, что я влюблена.
Суббота, 6 октября. Добрейший, милейший, Робер-Флери пришел взглянуть на мою картину. Добрейший, милейший!! Это уже конечно заставляет вас предчувствовать, что он меня сегодня не разнес. Первые слова были:
— Это премило выглядит.
Я тотчас же перебила его.
— Нет, нет, если вы говорите это, щадя меня, я не хочу этого. Этот ужасный Жулиан говорит, что меня постоянно щадят, что в сущности я ничего не знаю, что…
— А вы и поддаетесь ему: ведь он дразнит.
И добрейший человек хохочет от всего сердца над моей наивностью.
В общем, вот, что говорит он о моей картине: она очень хороша. Некоторые места безусловно хороши, настолько, что я может быть никогда не сделаю ничего лучшего. (Я привожу его собственные слова). Мальчуган справа и потом другой на первом плане, повернувшийся спиной, — безусловно хороши. Но фон должен быть сделан несколько светлее, особенно справа; от этого должны очень сильно выиграть самые фигуры, к которым я не должна больше прикасаться… Это работа на два часа.
Я должна была бы быть без ума от радости; но ничего подобного я не ощущаю, потому что я ведь не разделяю мнения моего превосходного учителя. Я могу сделать лучше. Итак, то, что я сделала, нехорошо? Недостаточно… я вижу лучше, я должна была бы сделать, как вижу.
Что-то скажет публика? Такая ли это вещь, чтобы быть замеченной? Как знать! Он находит, что хорошо. Но все эти хорошо — относительны, а такого относительного хорошо — я не желаю. Для другого это может быть и хорошо; но для меня — не для всех?.. Сильно ли это? Он находит, что маленький человечек, повернувшийся спиной, превосходно нарисован: так и чувствуешь его ножонки сквозь панталоны, говорит он. Уж не воображает ли он, что это благодаря анатомии.
Я просто списала то, что видела, ни о чем не думая. Впрочем мне кажется, что талант вообще бессознателен.
Суббота, 6 октября. Прочла роман Тургенева в один присеет, чтобы составить понятие о впечатлении иностранцев.
Это был великий писатель, очень тонкий ум, глубокий аналист, истинный поэт, своего рода Бастьен-Лепаж. Его пейзажи так же хороши, а потом эта манера описывать мельчайшие ощущения, как это делает кистью Бастьен-Лепаж.
Все, что я только встречаю великого, поэтического, прекрасного, тонкого, правдивого в музыке, в литературе, во всем — все заставляет меня вновь и вновь возвращаться мысленно к, этому дивному художнику, к этому поэту. Он берет сюжеты, в глазах светских людей самые пустые, грубые, и извлекает из них чарующую поэзию.
Что может быть обыкновеннее маленькой девочки, стерегущей корову, или бабы, работающей на поле… но никто не умел сделать этого, как он. И он вполне прав: да, в одном холсте может заключаться триста страниц. Но нас, понимающих его, наберется может быть всего каких-нибудь полтора десятка.
Тургенев тоже изображал крестьян — простого бедного русского крестьянина, и с какой силой, с какой простотой и искренностью. К сожалению, за границей эти вещи его не могут быть поняты, и известность его основана скорее на произведениях, посвященных изображению русского общества.
Вторник, 9 октября. Портрет Божидара кажется… хорош. Жулиан говорит, что он может иметь большой успех, что это очень оригинально, очень ново… В глазах всех — сходство очень велико, но я хотела бы видеть еще нечто — в маске. Голова и тело очень правдивы, даже на мой взгляд. Остается сделать только руку.
Но в половине шестого я вдруг улавливаю своеобразный эффект красноватого вечернего неба с серпом восходящего месяца: именно, именно, именно то, что мне нужно для моих Святых жен; в один момент я делаю набросок. В другой раз ведь не заставишь позировать такое небо… И теперь мне ужасно хочется приняться за картину сейчас же: теперь я сделала бы ее в три недели. Нужно всегда браться за вещи в благоприятный, психологически-благоприятный момент.