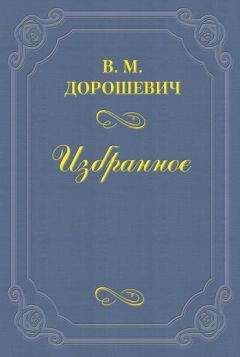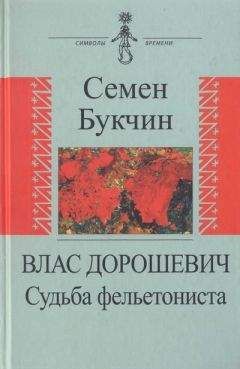Я читал этот роман.
Его читали все.
С увлеченьем.
Узнавали:
– Действующих лиц!
Были в восторге.
Публика любит, чтоб её любимец на сцене имел и красивые романы в жизни.
Она требует этого от актёра.
А. П. Ленский, наверное, получил не одно письмо:
– Не страдайте так! Она вас не поняла. Зато я…
– Обо мне даже был роман!
Верх суетной актёрской славы.
С публикой у Ленского всегда были самые лучшие отношения.
Однажды, он спас ей, быть может, несколько жизней. Во всяком случае, много рёбер, рук и ног.
В Большом театре, – тогда трагедии ставились по вторникам в Большом театре, – шёл «Гамлет».
На верхах было всё переполнено.
Там училась молодёжь.
В партере и ложах, по обычаю, пустовато.
Сцена с актёрами.
Только что «первый актёр», раздирая страсть в клочки, принялся за Пирра, в театре какой-то жулик крикнул:
– Пожар!
И тут я видел, как моментально толпа теряет рассудок.
В двух шагах от меня, в партере, какая-то полная дама лезла через кресла.
Два места, – никем не занятых! – отделяли её от среднего прохода.
Среднего прохода Большого театра, по которому можно проехать на паре с отлётом!
А она лезла через кресла, падала, карабкалась, кричала, рыдала, словно на ней загорелось уже платье.
В театре раздались крики, вопли.
Ленский, к счастью, не растерялся.
Он подошёл к рампе и во всю силу своих, тогда могучих, лёгких объявил:
– Господа, успокойтесь! Ничего нет!
То, что мешало ему в трагедии, помогло в трагическом эпизоде.
– Спокойствие.
Он таким спокойным жестом остановил «первого актёра», так спокойно сказал, от всего от него, от позы, от лица, веяло таким спокойствием, что публика моментально успокоилась.
Ленский спокойно спросил:
– Теперь можно?
и спокойно сказал актёру:
– Продолжай!
Театр дрогнул от аплодисментов.
И «Гамлет» пошёл дальше.
Спокойствие начало портить трагедию…
Была размолвка.
Кажется, единственная за всю карьеру Ленского.
Ему пошикали.
Это было уже сравнительно недавно.
В «Нефтяном фонтане» покойного Величко.
Несимпатичная пьеса с несимпатичной тенденцией.
Неподражаемый художник по части грима. – сколько изумительных «голов» ждало бы нас ещё! – Ленский загримировался Манташевым[13].
Галерея встретила его появление шиканьем.
Ленский остановился, выдержал длинную, как вечность, паузу, посмотрел на галерею пристальным, неподвижным взглядом и «только покачал головой»:
– Шикать в Малом Театре!
Прав ли был Ленский?
Конечно, нет.
Загримироваться живым лицом в позорящей роли.
Это неуважение к театру.
Но неуважение к театру, это – преступление, которое актёры прощают только самим себе.
Они похожи на тех курильщиков, которые не любят, чтобы при них курили:
– Дышать нечем!
Но это единственный «инцидент».
С капризным существом – публикой – у Ленского всегда были хорошие отношения.
И Ленский мог говорить о публике только с добродушной улыбкой.
Он играл в Москве каждый вторник Уриэля, Гамлета.
И всегда не при полных сборах.
Но вот его перевели на сезон в Петербург.
В самом конце сезона Ленский приехал на два спектакля в Москву.
На гастроли.
С тем же Уриэлем, с тем же Гамлетом.
Результат, – ни одного свободного места.
Барышники продавали билеты в пять, в шесть раз дороже. Нажили отличные деньги.
Дирекция решила:
– Нет, Ленского надо в Москву.
Но г. Корш… Мягкий, нежный г. Корш всегда любил слизнуть сливки, и обладал для этого ловким и гибким язычком… Г. Корш решил:
– Голубы! Я пеночку съем! Я!
Это был первый год его антрепризы.
От него ушла вся его труппа, Писарев, Бурлак и проч.
Он набрал кого попало и пригласил Ленского на гастроли после пасхи.
Но всем было уже известно, что Ленский будет снова на Малой сцене.
Тот же Уриэль, тот же Гамлет.
И гастролей не кончили.
Сборов никаких.
– Вот черни суд!
Если бы перед публикой можно было всегда только гастролировать!
И вот вся эта ясная, спокойная, хорошо наполненная артистическая карьера кончилась трагедией.
Мы думали, что после хорошего, ясного дня будет Долгий красивый закат.
Перед нами пройдёт ещё целая галерея бесподобных гримов, мы много, много ещё вечеров будем получать то высокое наслаждение, о котором мне говорил ещё на днях один знаток театра, сам артист, но не возненавидевший своего дела, что редко:
– Когда в Малом театре идёт «Горе от ума», я делаю всё, чтобы попасть. Сажусь, закрываю глаза и слушаю, слушаю. Только слушаю, как музыку, – как читает Ленский.
Мы думали, что, в конце концов, мы, растроганные, благодарные, справим нашему артисту юбилей, который напомнит нам юбилей И. В. Самарина…
Но Ленскому пришла в голову несчастная мысль:
– Реформировать Малый театр.
Это всё равно, что:
– Перестроить Ивановскую колокольню посовременнее!
Разве это возможно?
Я не знаю, какие на этот счёт порядки царят в Малом театре.
Но я знал одного реформатора, который тоже захотел реформировать Александринский театр, в Петербурге.
Он прослужил там год.
А нервно дёргался после этого два.
– Невозможно. Подхожу к одному. «Нельзя ли так-то?» Встаёт, кланяется в пояс: «Благодарю! Благодарю, что меня, дурака, научили! При шестом, батюшка, директоре служу! Публика меня любит, начальство меня любит! Чего мне ещё от господа бога нужно? Переучиваться мне, государь мой, поздно!» Подхожу к молодому. Выслушал сухо, холодно. Повернулся и к чиновнику пошёл: «Вы меня, вашество, изволили определить, а он меня, вашество, выживает. Он, вашество, не меня, – он властей не признаёт». Про одного скажу: «Этот лишний!» – сию минуту: «Куска хлеба лишить хочет! Сколько лет служил! Куда он теперь денется?» Про другого скажу: «Вот кого бы пригласить надо», – вопли: «Протекция!» Нет-с. Будет!
«Старики» скажут:
– Режиссёрствовать вздумали? Мы всю жизнь сорежиссёра играли. И хорошо выходило.
Перестраивать старое здание трудно.
Хочешь половицу переменить, а она, оказывается, так накрепко к накату пришита, что весь накат перебирать придётся.
Хочешь накатину тронуть, а она к самой капитальной балке такое отношение имеет, что и капитальную балку:
– Беспокоить надо.
Легче снова строить, чем старое перестраивать.
Мысль была неудачная, но и наказанье же за неё!
Это предсмертное желание:
– Увезите моё тело! Немедленно! Подальше от них!
Этот старик, падающий где-то на улице, подобранный в участок.
Этот вопль, которым кончается письмо в одну газету, напечатанное за несколько дней до смерти:
– На остальную характеристику моих отношений к учащимся и артистам я отвечать не стану. Это могли бы с большим успехом сделать, если бы нашли это нужным, те, кому я отдал ровно 20 лет моей жизни.
Ото всего этого веет «Королём Лиром».
Мне чудится «старая труппа» Малого Театра.
Театра через большое «Т».
Смущённая, испуганная, как стадо овец в разразившуюся вдруг грозу.
Старики особенно чутки к похоронному звону.
Как растеряны должны быть они:
– Что случилось у нас? Александра Павловича нет! Как это могло произойти?
За день до смерти Ленского мы прочли в газетах, что труппа Малого театра не то послала, не то собирается ещё послать А. П. Ленскому:
– Телеграмму с просьбой остаться.
Телеграмму!
Есть от чего упасть без чувств.
Телеграмма хороша для добрых знакомых.
Для друзей есть правая рука. Есть руки для объятий. Есть губы для поцелуя. Для друзей!
Не телеграмму посылают.
А идут и говорят:
– Александр Павлович! Да что с тобой? Да что с нами случилось? С нами – главное? Да пусть ораторскому искусству будущих депутатов учит кто угодно. А не Ленский. Не наше, милый, дело это. Мы умереть должны в Малом театре, как умер Самарин, как умерла Медведева. Да разве же после 32-х лет жизни разводятся?
Надо было смеяться, надо было плакать.
Мешать ласковый смех с добрыми слезами.
И смех, и слёзы мешать с поцелуями.
Поцелуев старых, дружеских губ нужно было, – а не телеграмм.
Через 32 года службы вместе он, умирая от разлуки со своим Театром, получил:
– Телеграмму!
Празднуют 35-летний юбилей Ф. П. Горева.
Всё был Макс Холмин[14], – и вдруг «Старый барин».
Как быстро несётся поток жизни!
Словно это было только вчера. Я помню:
Лето. Петровский парк. Театр Бренко. Горев, приехавший на гастроли в Москву.
– Красавец Горев!
Иначе его не называли.
Днём, около входа, толпа дам.
– Горев! Горев! – шёпот.
А он проходит среди этих, цветущих шпалер радостный, красивый, как молодой бог, беззаботный, как птица.
Самоуверенный? Спокойно глядящий вперёд?
Вряд ли.
Просто, ни о чём не думающий.
«И во всех глазах он без труда читал различными сердцами написанное одно и то же».