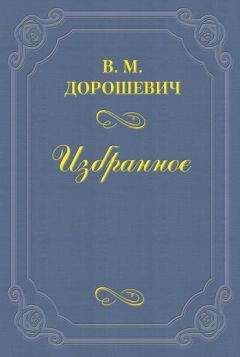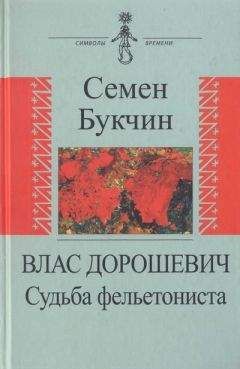«И во всех глазах он без труда читал различными сердцами написанное одно и то же».
Так же он прошёл и мимо нас.
Мы с вами за эти долгие, долгие годе вели серое, тоскливое, однообразное существование, трудились, работали, зачем-то тянули какую-то лямку. А он прошёл мимо нас, как праздник. Блестящий, великолепный.
Ни о чём не думающий.
И в жизни, и на сцене всё ему давалось без труда.
В жизни…
Имя Горева было окружено легендами. Но:
Покой и сон их душам молодым…
как поётся в «Синей Бороде».
На сцене…
Помню, после первого представления аверкиевской пьесы из византийской истории мы ужинали: несколько журналистов, артистов и один «византиец».
Молодой учёный, из-за византийской жизни проморгавший свою. Наживший близорукость, согнувший себе спину в дугу над «изысканиями».
Он и в театр-то выполз только потому, что шла Византия.
Ни что другое не могло бы его заинтересовать.
Учёный «гулял».
Выпил три четверти рюмки водки и тыкал вилкой в устричную скорлупу.
Он был выбит из колеи. Он был в восторге от Горева, игравшего византийского императора.
– Нет-с, эта сцена! Когда он уходит из спальни жены! Не спуская глаз! Пятясь спиной! Словно боится, что повернись, – и ударят сзади кинжалом! А как он проходит мимо каждого кресла, мимо каждой портьеры! Словно весь дворец, и даже спальня жены полны спрятанных убийц! Да ведь это вся Византия! Вся Византия!
В это время в ресторан пришёл Горев.
– Правда, недурно? – мельком спросил он в ответ на похвалы и глубоко задумался:
– К устрицам ты дашь мне не пармезану… нет…
Но учёный горел.
– Фёдор Петрович! Откуда вы взяли эту характеристику эпохи? Это вы почерпнули у такого-то? Вы, вероятно, штудировали такого-то? А на эту мысль вас. наверное, навёл такой-то?
Ф. П. Горев посмотрел так, словно у него над головой обломилась библиотечная полка, и полетели на него книга за книгой, в переплётах.
– Ни у кого не брал. Что тут брать?
– Но как же? Такая характеристика эпохи?
– Да что ж тут трудного понять. Вышел на сцену – смотрю: кругом такая дрянь…
Горев выразился сильнее.
– От них чего угодно ждать можно! Станешь пятиться!
Учёный смотрел, вытаращив глаза.
Если б он так не ушёл в византийщину, ему бы, наверное, вспомнился Пушкин:
…О, небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений – не в награду
Любви горячей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан,
А озаряет голову безумца, Гуляки праздного?
О, Моцарт! Моцарт![15]
И дорогой ещё согнувшийся молодой учёный, попадая сослепа в снежные сугробы, обиженно повторял:
– Этого не может быть! Он скрывает! Чутьё! Чутьё! Но нельзя же чутьём знать даже византийскую историю!
Да и сам Горев шёл в искусстве, как слепой. Но его вело за руку вдохновенье. И указывало ему, что нужно делать.
И он делал так, – что дух захватывало у театра.
В то время, как на парусинном небе Малого театра яркой кометой лихорадочно горел Горев, взошла новая звезда, постоянная, устойчивая, со светом ярким, но спокойным, – А. И. Южин.
Я очень люблю артиста Южина.
Когда он играет Ричарда, Кориолана, Макбета, даже Гамлета, – я иду в театр с таким же огромным интересом, с каким идёшь на вечер, где встретишь человека очень талантливого, очень умного, с огромной эрудицией. Его мнение интересно. Его выслушать огромное удовольствие.
Но я не думаю, чтоб с А. И. Южиным когда-нибудь случилось то, что случилось с Ф. П. Горевым где-то в провинции.
Он играл сильно драматическую роль.
Человека, которого затравили. Он задыхается. Он не только не может сказать ни слова, – ему нечем дышать. Вопль, – и он падает: умирает от разрыва сердца.
Занавес опустили.
Жидкие аплодисменты были заглушены шиканьем всего театра.
Там, за занавесом наступила гробовая тишина. Её прервал истерический крик… другой… третий…
Что в публике?
Актёры стояли растерянные, недоумевающие.
На сцену бледный, взволнованный, вбежал полицеймейстер.
– Что Горев?
Горев вышел из-за кулисы.
– Что вам угодно?
– Вы… живы?..
– Как видите!
Полицеймейстер даже за голову схватился:
– Батюшка! Да разве можно так пугать публику?! Ведь в публике подумали, что вы действительно умерли! Происходит чёрт знает что! Поднимайте занавес! Покажитесь!
Горев и Южин вступили в единоборство.
Если мне не изменяет память, – то, кажется, по вторникам тогда в Большом театре давалась трагедия.
Если на этой неделе Гамлета играл Горев, – то на следующей в чёрном плаще печального принца выходил Южин. На одной неделе Акосту играл Южин, на другой мы слышали от Горева:
Спадите, груды, камней, с моей груди!
Два направления в искусстве вступили в бой.
С одной стороны – самый блестящий представитель того, что называется «игрой нутром». С другой, самый яркий представитель «работы».
И труд, изучение, глубокая и вдумчивая интеллигентность победили.
В разговорах о Малом театре стало всё чаще и чаще обязательно упоминаться имя:
– Южин.
Горев отошёл немного в глубину сцены.
Тут бы ему оставить казённую сцену! И ярким сверкающим метеором нестись из театра в театр, по всей России.
Что бы это была за триумфальная карьера!
После весны, полной цветов, когда в каждом кусте роз соловьи пели про любовь, что бы это было за знойное лето!
Но артисты «образцовой» сцены думают, что сцена эта «образцова» и в отношениях к артистам.
Они думают, что артист непоколебим, как столоначальник!
И Горев сам приготовил себе печальный момент. Подошедшая осень постучалась ему в сердце тяжёлой, тяжёлой обидой.
Горев отошёл немного в глубину сцены. Только немного. Москва его любила. Любила очень.
Но в этом таланте было нечто донжуанское.
И между Эльвирой и донной Анной разыгралась трагедия его жизни.
Ему надо было завоёвывать публику. И едва завоевав, он, уж охладев, скучал и томился.
Его страшно любил Петербург. Он бросил Петербург и, совершенно неизвестно зачем, перешёл в Москву.
Зачем?
Чем донна Анна лучше остальных?
И когда донна Анна полюбила его сильной и глубокой любовью, – он снова уж пел под балконом Эльвиры.
Из Москвы, где его любили, он снова переселился в Петербург.
Зачем?
Изо всех людей на свете это меньше всего известно одному:
– Г. Гореву.
И когда настала осень, – пышная осень, вся в ярких тонах и сверкающих красках, – артиста в сердце ударили обидой.
Ему предложили отставку.
Петербургская дирекция взяла на себя роль Гонерильи, – неизвестно зачем, неблагодарная роль! но сыграла её великолепно.
Нельзя лучше оскорбить старого артиста, как дать ему отставку «за ненадобностью» в то время, как переполненный театр, весь, сверху донизу, рукоплещет его игре и кричит ему:
– Оставайтесь! Оставайтесь!
Это была обстановка прощального спектакля Горева на Александринской сцене.
Настоящая трагедия.
Когда занавес опустился в последний раз, – стало жутко и страшно.
Похоронили живого человека.
И бедный, раненый в сердце, Макс Холмин, ты мог крикнуть:
– Душу, живую душу, Диковский, съели!
Лир пошёл скитаться.
И в своих скитаньях он зашёл к нам и в радостный, и в печальный день своего тридцатипятилетнего, – уже 35-летнего! – служения искусству.
С сердцем, полным благодарности за былые восторги, почтим же в «Старом барине» молодого Макса Холмина.
После П. А. Стрепетовой осталось немного образов. Но ярких.
Катерина в «Грозе», Лизавета в «Горькой судьбине», жена Бессудного – «На бойком месте»…
Она играла Марию Стюарт. Страдающей королевы не было. Играла Адриану Лекуврёр. Блестящей артистки у блестящей артистки не вышло.
Когда большая артистка-народница бралась изображать королев и блестящих актрис, – это напоминало наивные романы «из аристократической жизни», по 20 копеек.
«Граф в бархатном пиджаке, туго натянутых серых лосинах и лаковых сапожках вошёл в театр.
Здесь, сразу было видно, его все знали. Он был, очевидно, постоянным посетителем: все капельдинеры поздоровались с ним за руку.
Граф прошёл в ложу княгини.
– Не хотите ли апельсина? – спросил граф, вынимая из кармана фрукт.
– Почистите! – задорно (непременно, задорно) улыбнулась княгиня.
Граф принялся ловко чистить апельсин, бросая кожу в кресла с непринуждённостью истинного аристократа».
Да что королевы и блестящие артистки!
Простую помещицу в пьесе кн. Сумбатова «Закат» она сыграла плохо.
Вместо обедневшей барыни получилась торговка.
Не то, что у неё не было для этих ролей только внешности, уменья держаться. Она не могла вообразить себя королевой, знаменитой артисткой, большой барыней.
Зато «простая» русская женщина, – крестьянка, как Лизавета и Бессудная, мещанка, как Катерина, – нашли в ней чудную художницу.