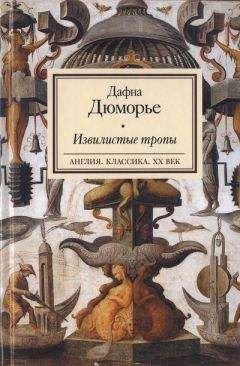— У меня тоже мелькнула такая мысль, — растягивая слова, говорит маленький Клименко, — но я думаю, если туда подтянуть пушки и дать Ковалеву с полсотни пулеметов, мешок может получиться…
— Тут есть и другая опасность, — вмешивается Карпелюк, — не менее острая опасность. Если даже Шнеккенбургер не пойдет к Елизаветпольскому перевалу без своих тылов (а тылы Ковалев отрежет у него несомненно), он может повернуть вправо, по дороге на Хребтовое, залезет к нам в тыл, и мы сами окажемся в мешке.
— Ну, это чепуха! — горячится Ковалев. — Самое главное, чтоб это все было для него внезапным и неожиданным. Никуда он не пойдет. Я стукну его по загривку так, что он у меня замечется, как карась на сковороде.
Высокий Козлов протискивается к столу, секунду смотрит на карту, рывком поправляет сползающие очки и, обращаясь почему-то к Карпелюку, говорит раздраженно и резко:
— Хорошо. Допустим, что мы оставим все без изменений. Никаких отходов, никаких мешков. Что нас ожидает? Полк Ковалева истекает кровью. Сменить мы его не можем. Ну еще день, еще два, ну неделю пусть он протянет. А потом что, позвольте вас спросить?
— А потом Ковалев сдаст немцам Волчьи Ворота, — бормочет усатый Малолетко, — потому что ему нечем будет обороняться…
Поигрывая карандашом, Аршинцев молча, внимательно слушает командиров. Глядя в его темные глаза, я понимаю, что этот человек уже все взвесил, все решил, сопоставил все «за» и «против», уже взял на себя ту огромную ответственность за исход операции, которая легла на него тяжелым бременем, но в то же время преобразила его — убила в нем все сомнения и колебания.
— Вопрос ясен! — он произносит эту стандартную фразу с легкой усмешкой и, склонившись над картой, бросает отрывисто: — Завтра в девятнадцать часов майор Ковалев, оставив в теснине одну усиленную роту, под покровом темноты начинает отход, вдоль дороги на Хатыпс и на южных скатах высоты располагает полк в засаде. Сегодня ночью ему будет придан дивизион артиллерии, который надо замаскировать на западных скатах с таким расчетом, чтобы простреливалась вся теснина — от слияния речных рукавов до селения Безымянного. Первый батальон из полка Клименко сегодня, в двадцать четыре часа, выходит к отметке триста восемьдесят шесть, располагается в лесной чаще и по моему сигналу закрывает противнику отход в теснину. Два батальона подполковника Ильина и отряд морской пехоты, который находится в резерве, сегодня, в двадцать три часа выходят к хутору Чепси и укрываются в засаде юго-западнее Фанагорийского…
Аршинцев на секунду умолкает, разглядывает карту и говорит, ни к кому не обращаясь:
— Если принять грубый подсчет, получится следующая картина: против десяти батальонов противника у нас будет шесть батальонов. Но на нашей стороне внезапность и полная готовность ко всему тому, что не предусмотрено противником. Кроме того, мы располагаем свою артиллерию так, что простреливается вся теснина, подступы к ней и выход из нее. Мы атакуем с трех сторон, сверху вниз, и вступаем в рукопашный бой.
Глядя на Ковалева, Аршинцев продолжает:
— Надо подготовить людей к этой операции, но смысл ее держать в секрете. Мы будем вести ближний бой в долине, замкнутой горами. Поэтому раздайте бойцам достаточное количество гранат, по десять штук на человека. Штыки надо держать примкнутыми. Ведите тщательную разведку и шлите мне донесения через каждые полчаса. Начало операции по часам, без сигналов. Начало открытия огня и боя на уничтожение — сигнал с высоты триста восемьдесят шесть, зеленая и красная ракеты. Мой командный пункт переносится на высоту триста восемьдесят шесть. Руковожу операцией лично я. Через два часа командиры полка получат мой письменный приказ. Вы, товарищ Клименко, останетесь на своем участке с двумя батальонами, а вы, товарищ Ильин, с одним. Прошу смотреть в оба. Вам, товарищ Карпелюк, придется заменить меня здесь и держать весь штаб в полной готовности ко всяким неожиданным поворотам событий.
Аршинцев еще раз склоняется над картой, насвистывая, рассматривает ее, а потом оборачивается:
— Ну, как будто все?
— Да, Борис Никитич, ясно, — кивает Штахановский.
— Ну вот. Остальное все в приказе. Можете быть свободными.
Командиры поднимаются, пожимают руку Аршинцеву и уходят, тихо переговариваясь. Неверов едет со Штахановским в полк Ковалева. Малолетко, покручивая усы, отправляется писать приказ. Мы с Аршинцевым остаемся одни. Он расстегивает гимнастерку, гладит ладонью грудь, вздыхает.
— Посидим на воздухе, — говорит он мне, — а то тут накурили, дышать нечем.
Мы выходим из блиндажа и садимся на бревно. В темноте шумят деревья, снизу доносится журчание речки. На переднем крае тихо, только время от времени, точно дальние зарницы, вспыхивают ракеты.
Аршинцев поворачивается ко мне.
— Хорошая ночь, — задумчиво говорит он, — в такую ночь хочется помечтать. А ведь нам есть о чем помечтать, правда? У каждого человека были до войны свои мечты, а сейчас мы все думаем об одном…
— О чем вы думаете? — спрашиваю я.
Аршинцев смеется.
— Я думаю о Волчьих Воротах.
Коснувшись его руки, я говорю:
— Скажите, Борис Никитич, вы совершенно убеждены, что операция у Волчьих Ворот будет удачной?
— Если бы я не был убежден в этом, — отвечает Аршинцев, — я не принял бы решения об отходе Ковалева.
— Что же вас тревожит?
— Знаете, на войне, как нигде, имеет значение случайность. Тысячи непредвиденных случаев подстерегают нас в бою на каждом шагу, и в наши расчеты вторгается множество фактов, появление которых не предусмотрено, а они иногда решают исход операции.
— Тогда, значит, можно говорить о фатуме, о судьбе, о счастье или несчастье.
— Нет, нельзя, — усмехается Аршинцев. — Я не фаталист. Все дело заключается в том, чтобы эти на первый взгляд мелкие факты, которые не предусмотрены никакими уставами, но могут решить исход боя, не застали нас врасплох.
— Вы об этом сейчас думали?
— Я думал сейчас о том, откуда начать артиллерийский обстрел, когда гитлеровцы пройдут теснину, чтобы заставить их немедленно повернуться на сто восемьдесят градусов.
— Ну и что же?
— Ну и решил бить в лоб и с боков, а потом ударю с тыла…
Днем у Волчьих Ворот все было по-прежнему. Фашисты четыре раза бросались в атаку и были отбиты с большими потерями. В течение дня два батальон Ильина и один из батальонов Клименко скрытно передвинулись в лесу и, как было приказано Аршинцевым, укрылись в засаде.
В пятом часу я поехал к Ковалеву. Тихий осенний день был на исходе. По лесным дорогам двигались замаскированные ветвями пушки, шли караваны нагруженных минами ишаков, по тропам пробирались группы бойцов. Но как только в воздухе показывались фашистские разведчики, все замирало: люди укрывались в кустах, пушки останавливались на обочине дороги. Вражеские самолеты, медленно покружив над лесом, улетали.